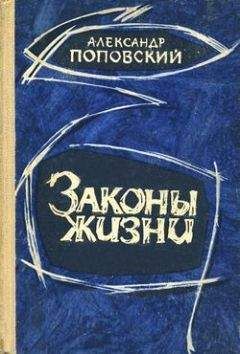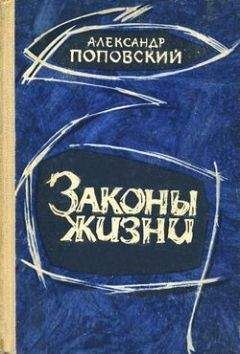Александр Поповский - Человеку жить долго
В юности Голиков писал стихи, мечтал и влюблялся, теперь он, посмеиваясь, говорил: «Что толку в молодости, она пустая». Живет Сергей Сергеевич на краю города, в деревянном доме, где жили его отец, дед и прадед. От каждого предка и многочисленной родни остались портреты, семейные фотографии и иконы. Они покрывают собой стены, выцветают и меркнут, а он все больше привязывается к «родовой галерее» и с немым вопросом, как бы обращенным к прошлому, подолгу разглядывает ее.
В рыбацкой бригаде Сергея Сергеевича но узнать. Застенчивость сменяется решительностью, склонность всем уступать и со всеми соглашаться — самоуверенностью, черты лица выражают загадочность. Так выглядит человек, которому ничего не стоит всех озадачить, удивить подвигом, поразить воображение волнующей тайной. Проникновенным взором он окинет небо и землю и по приметам, известным ему одному, скажет: «Быть дождю» — и никто в этом не усомнится. Чего стоят предсказания метеорологов, которые знамений природы не понимают! К чему приборы и расчеты, когда правда тут, под руками! Раз листья красного клевера и кислицы свернулись, цветы белой кувшинки закрылись, а цветочки-венчики чистотела поникли — быть ненастью.
И примет таких немало — заблагоухают вовсю луговые и садовые цветы, сирень и жасмин в пору цветения, или небо станет белесым, звезды замерцают, роса под утро на траву не сядет, золотистая заря покраснеет — жди дождя.
Сегодня речи Голикова особенно приятны его друзьям. Он помнит, что должен вывести на чистую воду Льва Яковлевича, и обрушивается на ихтиологов, которые на приметы внимания не обращают и тем подводят рыбаков.
— Им ведь что положено, — вдохновенно рассуждает секретарь, — помогать вам при лове, разведывать движение рыбы, знать наверняка температуру воды и всякое другое в природе. Кто им это скажет, метеорологи? А ежели погодознатцы промахнулись, в лужу сели ихтиологи, а заодно пострадали и вы. Так и выходит — ихтиологи правы, когда правы метеорологи, но так как метеорологи частенько врут, нет, значит, веры и ихтиологам…
Дружный хохот обрывает его речь. Как тут рыбакам не быть довольными: он нашел причину их бед, выдал им виновника, на которого можно теперь валить все неудачи…
Проходит день, другой, рыбаки слушают своего гостя и недоумевают — откуда у человека столько ума, где он у него умещается? Голиков уезжает со счастливым сознанием, что народ понимает и ценит его, а в сравнении с этим мнения его сослуживцев и даже суждения директора — ничто.
Голиков представил институту документы, подтверждающие, что в заводских водах планктона недостаточно и без дополнительного питания, хотя бы хлореллой, разводить рыбу невозможно.
Директор вызвал его к себе и спросил:
— Вы можете поручиться за точность обследования?
Сознание того, как много значит его ответ для личного благополучия директора, придало Голикову храбрости. Он с независимым видом заложил руки назад и, опершись ими о край стола, вытянул голову вперед. В таком виде он напоминал собой дятла, который, прежде чем стукнуть клювом по своей жертве, упирается хвостом о дерево.
— Конечно, могу, ведь я ранее вам говорил: Лев Яковлевич не планктонолог, откуда ему эту механику понимать?
— Нас могут проверить, — напомнил ему директор об ответственности, — вы должны это учесть. Больше ли, меньше ли там планктона — вопрос не праздный.
— Больше или меньше, — совсем осмелев, с беззаботной интонацией проговорил Голиков, — никуда этот планктон не денется, там и будет. Рыбы не склюют, станет удобрением, донная зелень поднимется, больше будет зеленого корма…
Директор досадовал, что связался с Сергеем Сергеевичем, и все же был доволен, что, не покривив душой, получил материалы, которые позволят ему себя отстоять. Не теряя времени, он в тот же день отправил акты в Москву. Два дня спустя материалы обследования обсуждались на ученом совете филиала. Никто не выступил в защиту Золотарева. Ему напомнили, что он без достаточного знания дела и без ведома филиала собрал и направил неверные сведения в печать. И, словно сами члены совета никогда пи в чем не ошибались, единодушно потребовали от администрации «оргвыводов»: На житейском языке это значило, что виновный передается в руки директора, от которого зависит, объявить ли ему строгий выговор или уволить из института.
Несмотря на поддержку ученой коллегии, задача оказалась далеко не решенной. Едва директор обмолвился о дисциплинарном взыскании, Золотарев, со свойственной ему краткостью, поспешил заявить:
— Я предпочитаю быть уволенным. Советую вам так и поступить.
То обстоятельство, что виновный не только пренебрег оказанным ему великодушием, но еще позволил себе диктовать условия, было воспринято директором как вызов, и он тут же решил его уволить. Оставлять после этого Золотарева — значило поощрять безответственность и дать повод для подозрения, что он из семейных соображений покровительствует ему. Поразительно, до чего этот человек самонадеян! Что поддерживает в нем его упрямство?
— Скажите мне, пожалуйста, зачем это все понадобилось вам?
Лев Яковлевич улыбнулся. Надо же быть таким наивным, — он просто ребенок.
— Я поступил так, потому что хочу быть нравственно достойным наследником вашего отца.
Хотя в этих словах звучал обидный намек на его ссору с отцом, Петр не ощутил обиды. Он только остро почувствовал, что ни возразить, ни уволить этого человека он но сможет.
— Поступайте как хотите, — с притворным равнодушием проговорил он. — Вы бы лучше подсказали, как мне быть с вами?
Золотарев обрадовался вопросу и с той же непринужденностью, с какой только что требовал уволить себя, предложил:
— Вас много раз просили откомандировать меня в институт. Почему бы вам так не сделать?
Таких просьб действительно было много, и, отказывая, директор ссылался на то, что Золотарев необходим в филиале. Как он объяснит это перемещение сейчас?
Лев Яковлевич словно понял его затруднение и пришел ему на помощь.
— Объявите мне выговор с занесением взыскания в послужной список. После этого вас никто не упрекнет, а в Москве догадаются, почему вы уступили…
Слишком суровую кару налагал на себя Золотарев. С этим нелегко было согласиться.
— Вы как будто возражали против взыскания, — с трудом выговаривая последние слова, спросил смущенный директор, — кажется, так?
— Одно дело — выговор с оставлением на месте, а другое — с переводом в Москву. Там, я надеюсь, помилуют меня…
Директор крепко пожал руку Золотарева, пожелал ему удачи и, не скрывая своего удовлетворения благополучным исходом, сказал:
— Я верю, что наши отношения останутся прежними… Ведь мы не чужие, не правда ли?
— Я надеюсь стать мужем вашей сестры, — спокойно ответил Золотарев, — и зятем ваших родителей. Кем будем мы друг для друга, предсказывать не берусь…
* * *
В середине октября в прохладный дождливый день Лев Яковлевич уехал в Москву. За день до отъезда он побывал у Свиридовых, беседовал с Анной Ильиничной и с Самсоном Даниловичем.
Разговор с женой ученого неожиданно затянулся.
— Я хочу просить согласия Самсона Даниловича на наш брак, — сказал Золотарев. — Замолвите перед ним слово.
— А моего мнения не спросят? — с притворной строгостью спросила она. — Принято как будто и нас, матерей, принимать в расчет.
— Я уже говорил вам, — подражая ее тону, ответил он, — что люблю вашу дочь и мы обязательно будем счастливы. На том мы с вами как будто порешили.
Она окинула его нежным взглядом и сказала:
— Я не буду с ним об этом говорить, мне кажется, что он вам уступит.
Речь зашла о Петре, и Лев Яковлевич заметил:
— Вы не должны его чуждаться, ему сейчас нелегко…
Она сощурила глаза, и морщины, свидетели забот и печали, обложили ее высокий крутой лоб.
— Странный вы человек! Вас заклеймили, уволили со службы, а вы хлопочете о нем… Неужели он просил это мне передать?
Золотареву стало не по себе. Жаль было Анну Ильиничну, ей так хотелось бы услышать, что сын вспомнил о ней и ждет ее поддержки.
— Я не думал о наших с ним разногласиях, — признался Золотарев. — Его ждут испытания, и ему понадобится ваше участие.
Она вздрогнула, словно от внутреннего толчка, руки ее сплелись и бессильно упали, в темных глазах отразилась тревога. Она хотела что-то спросить, но губы ее только безмолвно зашевелились. Прежде чем он сообразил, как успокоить ее, Анна Ильинична овладела собой и сухо спросила:
— Какие там еще испытания?
Спокойная уверенность, столь быстро сменившая тревожную напряженность, смутила Льва Яковлевича. Ему не раз приходилось быть свидетелем подобных перемен, и всегда они почему-то пугали его.
— Я не хотел вас огорчать, но мне стало известно, что он отправил в Москву не совсем правильные сведения. Могут возникнуть неприятности…