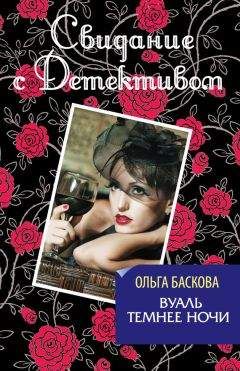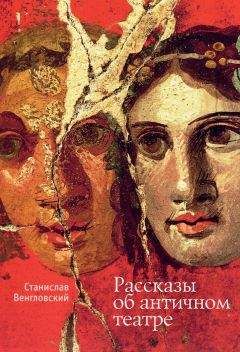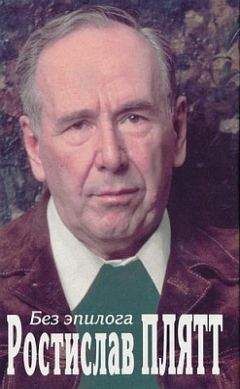Агния Кузнецова (Маркова) - Мы из Коршуна
Торквиний Маклий сообщил, что на Капри он живет уже пятнадцать лет. Его двоюродный брат – владелец отеля. А сам он одинок и беден. Но он рад этому. Бедность и одиночество дали ему свободу. Он – художник. Он не гонится за модой, а пишет то, что подсказывает сердце, но его картины никто не покупает. Брат приютил его в маленькой надворной постройке типа сарая. Да ему ничего другого и не надо. Он доволен своей жизнью. Он любит Капри.
Художник говорил громко, быстро, горячо жестикулировал. Он не умел стоять спокойно: переступая с ноги на ногу, поворачивался, заглядывая в лица своих спутников. Руки его заметно дрожали, когда он подносил зажженную спичку к сигарете.
Взяли такси-кабриолет.
Поднимались в гору мимо фруктовых садов, высоких пальм и кактусовых площадок. Сибиряки в первый раз видели такие огромные кактусы – колючие и усатые, шароподобные и узколистые, кирпичного цвета, коричневые, зеленые.
Море здесь было как на ладони. На горизонте чуть улавливались очертания Везувия. Справа на горах виднелись дома Сорренто…
– Остановите, – сказал итальянец шоферу. – Вот в этом доме жил Максим Горький.
Одноэтажный дом. Одной стороной – на улице, три другие – во дворе. За железным забором сад. Из окон, что выходят во двор, Алексей Максимович видел море, горизонт, и за туманной далью сердце его чувствовало Родину. Теперь в этом доме живет врач, и он не очень радуется, когда русские его беспокоят.
– Ну, тогда мы не будем тревожить его покой, – сказал Федор Алексеевич. – Тем более, уже вечереет…
Заметили, что дважды шевельнулась занавеска.
– Елена Николаевна, а вы можете представить себе Алексея Максимовича на фоне этого дома? – спросила Саша и, не ожидая ответа, продолжала: – А я отчетливо представляю. Вот он стоит передо мной, с длинными волосами, чуть ли не до плеч, высокий и худой, больной – ведь у него туберкулез…
Художник поинтересовался, о чем говорит русская девушка, и Минна перевела ее слова.
– Нет, у Максима Горького волосы были не очень длинные, – возразил итальянец. – Я хорошо помню его. Я его даже рисовал.
– Вы видели Горького? Разговаривали с ним?
Художник рассказал, как еще мальчиком он каждое лето приезжал на Капри к дяде – владельцу того самого отеля, который теперь принадлежал его сыну, и часто встречал Горького у моря и на улицах Капри. Уже тогда Торквиний увлекался живописью, и внешность Горького, резко отличавшаяся от всех, кого он видел, очень понравилась юному художнику.
Он вспомнил, как однажды поднялся на скалу, где сохранились развалины замка императора Тиберия, и долго стоял на площадке на самом краю обрыва. Здесь, по преданию, бросали в морскую пучину людей, неугодных императору. Далеко внизу пенились волны. Во время прибоя они яростно бросались на скалу, словно пытались разрушить это страшное место. Торквиний рассказал, как он присел тогда на камень, расставил самодельный мольберт и стал рисовать. Вдруг он почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он оглянулся и увидел Максима Горького. «Очень хорошо», – сказал русский писатель на плохом итальянском языке.
– Я до сих пор помню задумчивое и печальное выражение его глаз, грустно опущенные усы и глубокие складки между бровями. Когда он ушел, я тут же, по горячему следу, принялся рисовать его. И знаете, очень удачно схватил лицо и фигуру. Этот рисунок, уже будучи взрослым, я подарил одному русскому, – закончил художник.
Чтобы лучше осмотреть Капри, обратно ехали другим путем. Около лестницы, что вела к отелю «Белый кот», стали прощаться с итальянцем.
– Подождите. Мы хотим оставить о себе память, – с улыбкой сказала Елена Николаевна и подозвала к себе Ваню.
Ваня мгновенно исчез и через несколько минут снова стоял перед итальянцем, протягивая ему упакованный в целлофан нарядный карандаш «Великан» почти полуметровой длины. Художник был растроган. Он поцеловал руку Елене Николаевне, обнял Ваню и Федора Алексеевича, пожал руки девушкам и пообещал на память о себе подарить картину, изображающую Капри.
18
Вечером на Капри приехали Марчеллини и сценарист Аоста. Они пригласили сибиряков ужинать в тратторию.
Прямой и толстый ствол пальмы прорезал потолок траттории, сплетенный из соломы и украшенный фонариками. Разместились за столиками в низкой, скудно освещенной комнате.
Между собой и Ваней Роберто Аоста оставил пустой стул, и русские поняли, что он предназначен участнику партизанского отряда, который должен был приехать. Как же изумились сибиряки, когда в дверях появился их знакомый, Торквиний Маклий.
Аоста вскочил, приветственно замахал рукой, указывая на стул возле себя. Улыбаясь и кивая головой, художник подошел к столу своей осторожной, нерешительной походкой.
– Знакомьтесь, Торквиний, с нашими гостями из Советского Союза, – сказал Роберто Аоста и, к удивлению своему, услышал в ответ, что они уже знакомы.
– Ах, Торквиний, Торквиний! Знали бы вы, что ради вас все мы пересекли Неаполитанский залив, – громко и весело заговорил Аоста.
– Из-за меня?
– Да, из-за вас, – подтвердил Марчеллини и рассказал художнику об отце Вани.
– Иван Лебедев… Лебедев Иван, – задумчиво повторил художник, пытаясь припомнить имена русских, с которыми свела его судьба в те трудные годы.
Нет, такого имени он не помнил. В их отряде Лебедева не было.
– Но я свяжусь с бывшими партизанами из других отрядов, – быстро добавил он, прикасаясь к плечу Вани. – Я завтра же это сделаю. Завтра же. Вы не огорчайтесь. Мы обязательно что-нибудь узнаем.
Художник рассказал о знаменитом партизанском отряде братьев Черви. Их было семеро: Эттон, Овидио, Агостино, Фердинандо, Альдо, Антеноре, Деминто. Отряд был грозой фашистов. В нем сражались русские, англичане, французы.
Фашисты выследили братьев Черви в их собственном доме. Партизаны сражались до последней минуты, до тех пор, пока фашисты не подожгли дом, и только после этого удалось им схватить братьев.
– А в этом отряде не мог быть мой отец? – взволнованно спросил Ваня.
– Нет, его там не было, – ответил Рамоло Марчеллини. – Я интересовался списком фамилий русских партизан в отряде братьев Черви.
Торквиний Маклий снова вспоминал свой отряд:
– Был у нас один русский – Степан Березкин. Молодой. Ростом низенький. Глаза синие-синие. Как попал к нам, не помню. Итальянский язык знал совсем плохо. Заговорит – мы смеемся. Веселый, общительный такой. Песни хорошо пел. Мы все любили русские песни. Вечером соберемся в избушке и слушаем, как поет под гитару наш Степан Березкин.
Как-то среди ночи поднял нас выстрел часового. Сигнал – значит, тревога. Были у нас тайные тропы, по которым мы могли уйти незамеченными. Прикрывать уходящий отряд добровольно остались пятеро. И среди них Степан Березкин. Через несколько дней мы нашли их трупы. Похоронили на открытом холме, в братской могиле: четверо итальянцев и среди них один русский, сложивший голову за общее дело…
За столом стало тихо.
– Ну, оставим эти грустные воспоминания, – сказал Марчеллини, – тем более что наша достопочтенная хозяйка несет ужин.
Действительно, в дверях появилась хозяйка траттории с огромным подносом в руках.
Заговорили о музыке, прислушались к гитаристу, постоянному музыканту траттории.
– Вам нравится эта тихая музыка? – спросил Елену Николаевну режиссер.
– Очень, – ответила та, – именно потому нравится, что она тихая. У нас тоже любят гитару.
Вера сказала, что Саша хорошо аккомпанирует себе на гитаре, когда поет. Марчеллини, да и Минна, переводившая их разговор, ухватились за эту фразу. Марчеллини вскочил, подошел к музыканту и попросил у него гитару для Саши.
Сердце у девушки замерло. Но отказаться петь было невозможно. Она встала, немного отошла от стола. Несколько мгновений стояла потупившись, потом вскинула голову, улыбнулась, в глазах ее зажглись неспокойные огни, вспыхнули щеки ярким румянцем. Она в одно мгновение удивительно похорошела. И вот уже слышен ее чистый низкий голос:
Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера…
Аоста и Марчеллини переглянулись. Саша старалась петь тихо. Но она привыкла петь во весь голос на берегу реки, на таежных полянах и вскоре перестала сдерживать свой голос. Она была уже не в траттории на острове Капри. Ей казалось, что темным вечером идут они с Ваней по дорожке парка, залитой лунным светом. Это ему спела она с особым чувством:
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.
В траттории смолкли разговоры. За столиками перестали ужинать, а музыкант-итальянец, не сводя восторженных глаз с русской девушки, приблизился к столу.
– Она певица, – шепнул Роберто Аоста режиссеру.
– Отличный голос, и почти поставленный! – так же шепотом ответил Марчеллини.