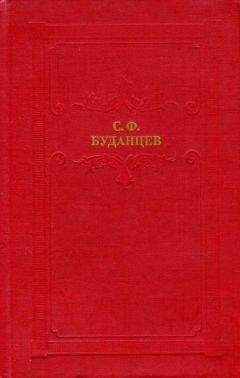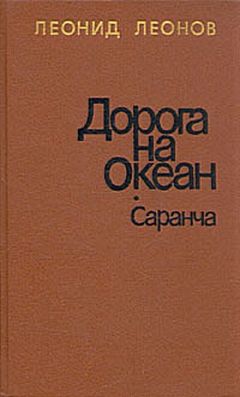Сергей Буданцев - Саранча
— Можно высаживаться, Мальвиночка.
Она двинула бровями, приказала подать Лильку, которая заскулила, удрученная всем происходящим.
К вечеру во дворе появились два ишака, нагруженные багажом киносоглядатаев, и помощник Бродина, долговязый восемнадцатилетний парень, которого все звали Славкой.
Весь день Таня устраивала приезжих. Муханов жил у Веремиенко. Траянов поселился в кабинете у Крейслера. Бродиных направили к Вильским. Славка заявил, что будет ночевать в автомобиле.
Вечером пришлось поить всех чаем. Мужчины пришли веселые, бодрые, с разговорами об отравленных отрубях, которые превосходно действуют. Сжигательные аппараты тоже пригодились. Эффендиев согнал всю округу, рабочих рук оказалось так много, что даже канавы и волокуши производили некоторое действие. «Унтер» криво отражал видимое, от него было жарко, как на солнцепеке, но из окон, затянутых сетками, сочились прохлада и дальний шум. Славка выпил семь стаканов чая и съел три фунта хлеба. Сало достал из кармана, гремевшего ключами и инструментами. Юноша удивил необыкновенным аппетитом и самоуверенностью. К тому же он успел сообщить, что, подработав на этой киноэкспедиции и вернувшись, женится.
— Вам восемнадцать лет. Мы в ваше время… — начал вяло и насмешливо Муханов.
— Знаю, что вы затрубите, слышали! — прервал его Славка. — В наше время для мальчишек легкомысленных замужних дамочек не припасено. Нам и вкус адюльтера не известен.
Все оторопели. Славка победоносно заявил Бродину:
— Потопали, хозяева, спать! У нас нервы городские.
Крейслер удержал Мальвину Моисеевну:
— Посидите, я вас провожу.
Та прижала заворчавшую Лильку и кокетливо обнажила маслянистое плечо. Муханов лениво острил, вспоминая названия селений:
— Все какие-то Рустемы и Зорабы кругом, словно Жуковского проходишь.
Таня громко смеялась. Веремиенко сидел черный. Траянов беседовал с Эффендиевым, никто не заметил, как в их углу разгорелся спор.
— Да, широко, исторически она вас, как нацию, и угнетала. Но вы-то лично должны быть этой культуре благодарны. Жертвами военного коммунизма средняя, центральная Россия, та самая, которая угнетала, а теперь ведет к социализму, — она расплатилась со всеми. Да и может ли культура угнетать? Придется сузить вопрос, свести к государственности.
Но тут Эффендиев встал и, совершенно неучтиво сославшись на благоразумие предшествовавших товарищей, заявил, что уходит спать. Старик, растерянно улыбаясь, придвинулся к столу. Крейслер поймал его смущенный взгляд.
— Вам трудно освоиться с растущими новыми отношениями, — шутливо сказал он. — Простота, — не желают выслушивать до конца то, что кажется несущественным. Мы же с вами тревожимся другими мыслями, и то, что вы сказали, мне очень близко. Что привело меня в Россию и что удерживает теперь здесь, в удручающей нищете, в дьявольской работе без отдыха и срока, ответственной, неблагодарной? До границы тридцать верст, скарба у нас — в охапке унести можно, так что же привязывает? То, у чего нет ни веса, ни меры, — желание участвовать.
— Это твое участвование дорого стоит. Не люблю, когда оправдывают то, что навязано, что фактически переносишь с трудом.
Михаил Михайлович удивленно поднял брови. Жена сердито гремела посудой, струя кипятка била в полоскательницу тоже как будто с гневом. Мальвина Моисеевна понимающе скалила зубы.
— Правильно, Татьяна Александровна! Что тут голову морочить, — вмешался Веремиенко. — Денег нет, а то мы и в Мешеде каком-нибудь жили бы веселее, чем здесь. А уж спокойнее-то во всяком случае.
Эта странная заинтересованность, сгустившая туманную фразу Траянова до призыва высказаться о личной судьбе, разогнала дремоту даже в полуприкрытых веках Муханова. Он заговорил, слушая себя:
— Количество и качество общих, так сказать, кардинальных идей о жизни и человечестве, обращающихся сейчас в России, поразительно огромно. Они углублены и заострены, они ранят и убивают. Интеллигент, обыватель, рабочий, любой советский гражданин мыслит, можно сказать, парит мыслями, готов за идею на костер, становится к стенке, идет в изгнание. Мы с этой стороны превосходим Запад с его практицизмом и мелкими делами. Но, думая о будущем устройстве человечества, мы никогда, даже в нашей грубой стране, не доходили до такого презрения к человеку, невнимания к его нуждам. И в конце концов, чего мы хотим? Мы хотим только того, что убийственно медленно, хотя и органично делается в Америке, в Европе. Мы хотим освободить плоть человека. Две тысячи лет понадобилось, чтобы одолеть вражду христианства к цивилизации Рима, к столь человечной, заботливой о бедном человеческом теле. Там, на Западе, начинают с внедрения автомобиля и ванны, а мы — с освобождения брака…
Тане было непонятно, где в его полысевшей голове гнездятся такие мысли, откуда появилась живость. Он поигрывал обрывком веревки, делая петлю и затягивая запястье, словно казнил кулак. Заметив, что Таня смотрит, сразу бросил забаву, как будто испугавшись.
— Но какое душевное напряжение, сколько труда, сколько крови требуется, чтобы дать возможность сносно жить этой человеческой массе, — сказал Крейслер. — И я жить хочу, и работать хочу. И могу. Я заблуждался, может быть, блудил. Но теперь, показав верный путь, дайте мне пойти по нему…
— Что ты нас просишь, когда ушел единственный коммунист из комнаты, пусть он и дает, это по его адресу…
Горячность Крейслера нагнала на Муханова прежнюю скуку, Все стали прощаться. Траянов задержался, сказал вслед Муханову:
— Облезлый он какой-то. Человек может жить или патетической верой, или ненавистью. Некоторые пробуют жить наигранной иронией. Нет, я предпочитаю татарскую грубость этому наигрышу и сплину. Он очень малодушен и труслив, не умеет отнестись к себе как к постороннему, объективно: мысленно поставить себя в среду и посмотреть, как это выглядит. Такие люди легко зарываются. И страстишки его разъели, источили.
Михаил Михайлович пошел с Мальвиной Моисеевной, пропадал около часа, вернувшись, щурился на свет полупьяными подслеповатыми глазами. Губы его припухли, покраснели. Таня почувствовала свое тело пугающе легким, томным мыслям не было ни имени, ни определения: она только спрашивала себя, как она еще жива? Но обратиться к мужу хоть с каким-нибудь упреком у нее не хватило сил. Он ответил бы чем-нибудь насмешливым. Да и в самом деле, что могло быть в тополевой аллее с едва знакомой женщиной?
Наехали люди, нашумели, затолкали и, как в толпе, окончательно оттерли, оттеснили ее от мужа. Словно сговорившись, наперебой произносят интересные речи, он спорит с ними, а не с ней, хотя она его прямо вызывает. Конечно, она больна, слаба, нервна, она выговорилась, он ее знает вдоль и поперек. А та налита чувственностью, жиром, мужчины это любят. А краски у нес на лице, а брови, а усики! Недаром они говорят о плоти и о свободном браке. Таня Взяла обожженную спичку, подвела глаза и искусала почти в кровь губы. Из зеркала на нее поглядел бледный призрак, злой и некрасивый, с кровавым ртом.
IIIУтром Таня проснулась позже мужа, с горлом, как бы раздраженным-длинными разговорами, — это, по всей вероятности, накипали слова, которые она не могла сказать вчера. Теперь тревоги, при свете голубого неба за зеленым платаном, показались нездоровыми. Но ведь это же правда, что се болезнь отягчает и без того нелегкую жизнь мужа. Разве такая жена помощница, она — обуза. Дай она детей, семью, навали на него новых обязанностей; вот и стала бы дорогой, неотрывной. Ей захотелось плакать, но эти размышления были все же выносимее вчерашних тревог по пустякам. Так и принуждала себя подумать: по пустякам. И когда пришел Михаил Михайлович, позвал посмотреть на работы, Таня застыдилась и подозрений, и своей мелочности.
— Ты так в ад за грехи попадешь, — сказал он, смеясь принужденно.
— Может быть, пригласим мадам Бродину?
Он помедлил какую-то йоту времени.
— Да она отказывается. Говорит, что от солнца веснушки…
Уже два дня ад, слышно было, приближался к заводу, погромыхивая, как дальняя невидимая туча, гулом борьбы. Три грузовика, подводы с бочками для керосина тарахтели по шоссе к станции. Ржали испуганные лошади, щелкали кнуты. Подростки со всей округи рвали трещотками и колотушками жгучую тишину, обычно кисшую над болотистыми берегами Карасуни. Женщины цепами били по земле ползущую саранчу. Именно этот глухой мертвенный звук молотьбы торжествовал над всеми оживленными, веселыми шумами сражения. Уступив бабам легкую работу, ругались и командовали ими мужики, копая канавы. Скрипели катки и конные аппараты-опрыскиватели, гремели ведра, однообразно рвались понуканья, — изнемогшие лошади шли плохо. Все это, слитое в мощное бормотание грома, ползло вместе с саранчой к заводу, до которого оставалось версты две. Михаил Михайлович бережно поддерживал жену под локоть.