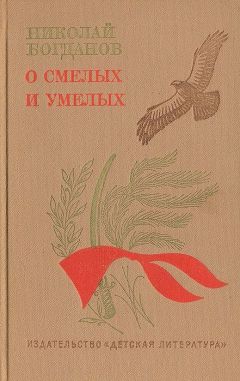Николай Богданов - Вечера на укомовских столах
— Ну и что же ты? — спросил Алешка заинтересованно.
— Я смерил их презрительным взглядом!
— А дальше?
— А дальше я им сказал:
«Позвольте, что же это вы задумали — подрыв революции?»
«Почему — подрыв? Разве устройство хорошей жизни — это…»
— Отчего революционеры делались, я вас спрашиваю? — Парень уставился в нас одним глазом, который у него как-то странно завертелся, словно буравил. И ткнул в каждого пальцем.
Мы промолчали.
— Революционерами люди делались от плохой жизни! От сплошных страданий. Ежели заболотцам, а затем всем нашим людям дать вкусить хорошей жизни — откуда же революционеры возьмутся? Бытие-то определяет сознание, не так ли? От хорошей жизни какое подполье, какая борьба? Революции-то не захочется!
Это было убедительно, и мы призадумались.
— Не улучшать надо бытие, а ухудшать. Чем хуже — тем лучше. Чтобы народ наш не прохлаждался, а горел, как в чесотке, пока не свергнута мировая буржуазия! Пока не заведен коммунизм на всей планете! Не созидать надо, а разрушать! И изучать эсперанто! — крикнул он после передышки.
— Ну и что же дальше? — спросил переживавший больше других Алешка.
— Выпроводил дружков. До мировой революции, — говорю, — о личном счастье не смейте и думать.
— А Тося как же?
— Ушла со всеми. И не только ушла — пошла наперекор. Занялась вместе с ребятами стройкой плотины. Водоспуск копала, землю в тачке возила, камни-бревна подносила. Откуда у девчонки сила бралась?.. Потом-то я понял, откуда… Стройку-то возглавлял кто? Сынок учителя, интеллигентик Игорь. Понятно? — Серафим Жеребцов подмигнул нам единственным глазом. — До чего же хитер оказался! Мало силенок у комсомольцев, так он все население расшевелил. Любителям гусей-уток заявил:
«Помогите, и будет где вашей водоплавающей птице разгуляться».
Стариков рыболовов тоже на крючок поддел — карасей-щук, дескать, разведем. Мальчишек и тех в свою лавочку притянул — известно, мальчишки любители купаться. Так он прелестное купание посулил.
То есть не осталось в Заболотье человека, кто бы не пришел на эту стройку с лопатой. Велика людская тяга к улучшению своей жизни, я вам доложу! — сокрушенно опустил голову знаток эсперанто. — Но я от идей не отступник. Я не бросил и горстки земли в комсомольскую плотину, в эту могилу мировой революций и пламенных мечтаний о всеобщей коммуне и всемирном братстве трудящихся.
Много раз я говорил им:
«Остановитесь. Что вы творите? Вспомните воинов Спартака, размагнитившихся от хорошей жизни. Обабитесь и вы! Не сможете побить горшков и ринуться в бой, когда заиграют трубы, призывая в последний решительный!»
Но вопил я зря, как в пустыне. Плотина росла. И надо мной уже мальчишки стали смеяться, как над непризнанным пророком… Гнали и швыряли камнями. Правда, небольшими… так, по-детски, шалости ради…
И вот, когда затея стала превращаться в реальную угрозу, решил я не дать никому возможности погрязнуть…
— Покупаться, помыться? — воскликнул Алешка.
— Погрязнуть! — упрямо подтвердил Серафим. — В болоте благополучия. Я удалился и в тиши неприемных часов аптеки стал…
— Изучать эсперанто, — съехидничал Алешка.
— Нет, готовить взрывчатое вещество.
При этих словах ребята перестали улыбаться.
— И наготовил достаточно, мобилизовав весь запас бертолетовой соли… Вспоминал Кибальчича, готовившего бомбу, чтоб взорвать царя. Заложил натертый мной самодеятельный порох в бидон, имевшийся в аптеке для дистиллированной воды. Он всегда стоял пустым. Проделал дырку для шнура. Вставил запал… Словом, все, что надо. Но в последний момент остановился.
Серафим Жеребцов выбил о каблук пепел из трубки и долго набивал ее для нового запала. Затянулся, пустил дым. Разогнал его ладонью. И вдруг сказал:
— Чуть-чуть не размагнитила меня любовь. Я ведь ее все-таки любил, Тосю… И думал жениться. После мировой революции, конечно… Всегда мы обо всем вместе, все мечты. И куда поедем на подпольную работу. И как будем бороться. Я все письма в инстанции с ней обсуждал… Решил обсудить и этот вопрос окончательно. И если она отступница — вычеркнуть ее навсегда из сердца!
Вышел я однажды ночью из своего добровольного аптечного заточения. От бесконечного стирания бертолетки с углем и сахаром меня что-то поташнивало. Производство пороха вредно для здоровья… Захотелось мне освежить голову и подкрепить нервы.
Иду и что же вижу — плотина-то готова! Лежит поперек Грязнушки такая самодовольная, чистенькая, укатанная катком. И волны о нее плещутся, баюкают. И лунная дорожка на воде играет синим светом. И несколько чахлых ив, росших по берегам Грязнушки, очутившись в воде, даже как-то распустились и похорошели.
И захотелось мне почему-то сесть в лодку да запеть песню. Да, братцы, захотелось… Был такой соблазн. Но внутренний голос запротестовал: «Серафим, не отступай! Серафим, вспомни об угнетенных!»
И стал воображать я коммунистов в застенках белой Польши. Комсомольцев в лапах румынской сигуранцы. Разжигать в себе ненависть против мировой буржуазии.
И вдруг почуял, со спины почуял — идет Тося. Ее шаги ни с чьими не спутаешь…
Цок, цок, цок каблучками по плотине, звонко, как по дощечкам. Обернулся я.
«Сима!»
«Тося!»
Схватились мы за руки, глаза у обоих засветились.
«Ты? Здесь? Видишь? Наслаждаешься!»
«Увы, да».
«Почему „увы“?»
Беру ее за руки, смотрю в глаза. У меня еще оба действовали тогда…
«Тося, в свете международных событий, в рассуждении мировой революции для чего сие?»
И не успел я углубить вопроса — она вдруг как выдернет руки из моих ладоней, как отпрянет — и на край плотины. Я за ней — думаю, еще бросится да утонет. Она прыг — но не в воду, а в лодку. Уже лодка здесь очутилась. И в ней весла. Закачалась под ней лодка. Лунные блики по воде побежали. Тося в ней вся заколебалась и вдруг крикнула:
«Игорь! Скорей сюда, Игорь!»
И вот он, Игорь, явился — презренный искатель счастья, которого и в комсомол-то принимали с кандидатским стажем, как интеллигентский элемент. Оказывается, того и ждал где-то рядом.
Промчался он мимо меня без всяких объяснений и — скок в ту же лодку. Оттолкнула ее Тося. Села рядом с Игорем на скамеечку, обвила его рукой и чмок в щеку!
«Вот для чего сие!» — И еще раз — чмок и снова: «Вот для чего сие!»
И ее смех ударил мне в сердце, как нож.
Она еще смеялась. И смех доносился до меня, отраженный зеркалом воды. А я уже вбегал по ступенькам аптеки, и руки мои тянулись к взрывчатому бидону.
…В этот момент, оглядев наши застывшие лица, Серафим Жеребцов быстро завладел воблой и, поколотив ее о каблук, как трубку, стал быстро очищать от чешуи. И никто из нас не обратил даже внимания на такое политиканство. Все сидели, вообразив картину, нарисованную им. Прожевав на быстроту, пока мы не опомнились, кусок воблы, Серафим заключил:
— Когда я рванул водоспуск, они еще катались на лодочке… Без весел. Забыв весь свет… Заплыли в куст ивы… и очутились на мели, когда вода ушла. Да не просто на мели, а на виду сбежавшегося народа на верхушке ивы. Ха-ха-ха!
— Ну, а ты как же?
— Я? Что я? Жив, как видите! Мне выбило взрывом глаз, рассекло щеку. Сильно контузило. Я глух на одно ухо… с тех пор.
— А нога?
— Ногу повредили злобные обыватели, гусятники-карасятники… Я после взрыва бежал сгоряча, так они, черти, ловили меня всем народом, как конокрада… И, если бы не комсомольцы, довели бы самосуд до конца… Отбили меня ребята… Поняли — их же я в сознание привести хотел. За сохранение их как революционеров старался… И вот теперь…
Били меня все, даже некоторые комсомольцы… Они меня, правда, от самосуда спасли. Но исключили из ячейки.
— Ну и что же теперь? — вскочил Алешка.
— Дело ясное. Завтра на бюро укома стоит мой вопрос. Я требую меня восстановить, а их исключить.
— Всю ячейку?
— Всех без исключения.
Тут вместо реплики неугомонный Алексей Семечкин вдруг преподнес ему дулю.
— Это как понимать? — оскорбился Серафим Жеребцов.
Никто не вступил с ним в дискуссию. Все мы тут же постановили отправиться в субботу на воскресник восстанавливать Заболотскую плотину.
* * *
Ну, а что же с Серафимом Жеребцовым, интересно вам знать? Как разобрался наш уком в его персональном деле? А никак. Проснулся я утром, а его и след простыл. С первым же попавшим паровозом укатил.
— Спугнули, черти неугомонные! — ругал меня Потапыч. — Ищи его свищи теперь, удрал с комсомольским билетом. Не иначе в губком махнул. Знает, хитрюга, — чем дальше от места происшествия, тем трудней в таком деле разобраться. Открутится-отвертится и немало еще воды помутит… Надо бы ему, косому, соли на хвост насыпать!
И что же вы думаете — открутился ведь Серафим. Сумел провести тамбовских губкомовцев. На его счастье, наш уезд в то время в Рязанскую губернию перешел и с тамбовцами мы связь утеряли.