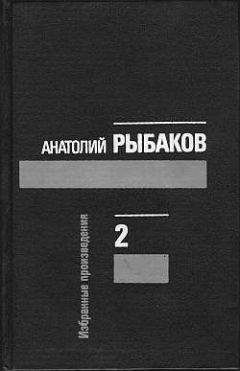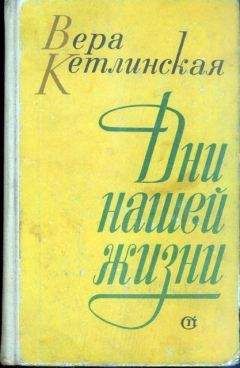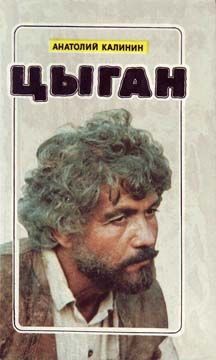Анатолий Рыбаков - Лето в Сосняках ис
Ну ладно! Пожила я у мамы три дня — вижу, ей самой есть нечего, и спала я на полу, зима, морозы лютые, какой там пол. Вернулась я в Москву. Что, думаю, делать! Прописки нет, работы нет, в институт я не поступила, жить негде, спать негде, надо возвращаться в Сосняки — и неохота: Москва все-таки. Зашла я к Вере, передала, что к маме ездила, рассказала, как мучается она, поплакали мы, как полагается, расчувствовались, стали виниться друг перед другом. И начала меня Вера уговаривать не возвращаться в Сосняки, а выйти замуж. Представь себе! Был у них знакомый, тоже физик, с Евгешей работал, Севой его звали, Всеволод, молодой еще. Когда приходил, таращил на меня глаза. Вера уговаривала: способный, талант, любит тебя, не спеши, посмотри, подумай, в Сосняки всегда успеешь.
Ладно! Собрались у них гости. И Севу позвали. По какому поводу собрались — не помню, приемы и банкеты у них бывали часто. И вот сижу я среди них и думаю о маме, как она сейчас в своем хлеву дует на замерзшие пальцы. Мы, ее дочери, сидим в роскошных комнатах, слушаем магнитофонные ленты, пьем коньяк, едим крабов и сациви из «Арагви»! А она там дует на замерзшие пальцы и прячет хлебные корки, чтобы их крысы не поели.
Миронов погладил ее руку.
— Хватит, не надо, прошу тебя, не надо.
— Нет, — сказала Лиля, — я хочу все рассказать. Слушай. И вот вдруг в эту минуту я вспомнила, как еще вчера, в Александрове, рано утром, я открыла глаза и вижу: мама стоит в углу и раздевается. Видно, только с улицы пришла. Я сквозь сон услышала шорох и открыла глаза. Мама стоит в углу, сгорбленная, голова закутана в платки и тряпки, и на ногах какая-то рвань. И все это с себя разматывает. И палка в углу стоит. Я спрашиваю: «Мама, ты откуда?» Она говорит: «На рынок ходила, вот картошки принесла». И показывает мне в авоське картошку. «Спи, говорит, еще рано». Холодина была страшная, я пальто на голову натянула и заснула… Тогда, в Александрове, я не придала этому значения. А сейчас вдруг, сидя за этим столом, я вдруг поняла… Боже мой!.. Ведь мама ходила к монастырю, ведь это она милостыню собирала у монастыря с протянутой рукой, в тряпье, под снегом, сгорбленная, седая. Такое отчаяние меня охватило, так страдают невинные люди, моя маленькая, седая, сгорбленная мама. За что ее преследуют, гоняют по всей России, ведь она едва двигает ногами.
— Прошу тебя, не говори больше об этом, — сказал Миронов. — Не надо ничего рассказывать, прошу тебя. Когда-нибудь в другой раз.
— Прости меня, я дура, разволновалась. Столько лет ждала тебя и чуть истерику не устроила, дура, идиотка! Извини меня, не сердись. Позволь мне все рассказать. Я не буду волноваться, честное слово. Мне хочется рассказать тебе, как я вернулась в Сосняки. Я хочу, чтобы ты все знал, все понял. Ведь когда я вернулась в Сосняки, я так хотела тебя видеть, и я увидела тебя, помнишь, мы ехали на твоей машине в Верхний, я была за рулем. Потом мы сидели в кафе, ели мороженое с этой профессоршей. Так глупо все получилось! Я сама виновата, но я хочу, чтобы ты все понял.
— Я виноват, — сказал Миронов.
— Нет, нет, слушай, тогда на вечере у моей сестры, Сева этот, жених мой, заметил мое состояние, он сидел рядом и ухаживал за мной, он спросил, что со мной. Он спросил участливо. Но у него был невыносимо бархатный голос, а в моих ушах стоял хриплый, простуженный голос моей матери. Он озабоченно склонился ко мне, на нем был белый крахмальный воротничок, и на мне шикарное Верино платье. И я хотела разорвать на себе это платье потому, что моя мама куталась сейчас в грязные тряпки, мерзла и подыхала в них…
Подошла Вера. Она тоже видела мое состояние, в глазах ее был такой страх, такая боязнь скандала, испорченного вечера, что я взяла себя в руки. Черт с ней, пусть веселится, если может! Все танцевали. Только мы с Севой оставались за столом. Я его спросила: «Вы бы отдали свою жизнь за то, чтобы на свете не было обездоленных людей? Отдали бы вы свою жизнь, свою науку, свою карьеру?» Он подумал и ответил: «Жизнь бы я отдал, науку нет. Если что и даст людям счастье, то только наука». Так умно и культурно он мне ответил. А я подумала: «Нет! Этот по Владимирке не пойдет. И врет! Не отдаст он жизнь ни за кого!..» В общем, невыносимо стало мне все это: и Сева, и сестра с Евгешей, и все эти гении доморощенные. Наклонилась я к Севе, спрашиваю: «У вас мать есть?» — «Есть», — отвечает и таращит на меня глаза, чучело! Я наливаю два фужера водки — они из этих фужеров боржом пили — и говорю: «Выпьем за то, чтобы вашей маме никогда не пришлось стоять с протянутой рукой». Он еще больше вылупился на меня: «Неужели вы это выпьете?» — «Эх ты, говорю, слабак мужчина!» — и выдула весь фужер. И не закусила…
Какое-то время я еще соображала, что делала. Оделась, вышла на улицу, доехала до центра, прошлась от площади Дзержинского до Охотного, потом по Горького до Центрального телеграфа. А что потом — все в тумане.
…Наутро просыпаюсь в милиции… Стою на своем: приехала к сестре из Сосняков, выпили по случаю приезда, вышла погулять, пристал ко мне нахал, я защищалась. Позвонили они Вере, та все подтвердила, примчалась в милицию и Евгешу притащила, а он членкор, грозят жаловаться, требуют, чтобы выпустили.
Короче говоря, попало мое дело на Петровку. Привозят туда. Сидит в кабинете полковник милиции, пожилой такой русачок в милицейской форме, с погонами и пистолетом, голубоглазый, пузатенький, продувная, видно, бестия. Просмотрел мое дело и начал стыдить. А раз начал стыдить, значит, выпустит, когда хотят запечь — не стыдят… «У всех, говорит, есть родственники вполне приличные, попадаются даже академики (это он на Евгешу намекал). Однако не родственники устроили скандал в пьяном виде, а вы устроили, так что родственники здесь ни при чем. Все ж, принимая во внимание вашу молодость, ограничимся пока приводом, сделаем отметку на всякий случай. А еще раз попадетесь — заставим прогуляться годика на два в такое место, где вы забудете, как водка пахнет. А пока потрудитесь оставить Москву. В двадцать четыре часа».
В общем, так это весело, я бы даже сказала, галантно говорит. Я тоже осмелела, все равно отпустит, я и говорю: «Почему я должна оставить Москву? В Москве я родилась, в Москве у меня сестра родная». А он меня не слушает, пишет резолюцию о прекращении дела и рассеянно бормочет, так, для себя бормочет: «Ничего, поезжайте к папочке, к мамочке в… — он посмотрел в документы, — в родные Сосняки поезжайте!» Зло меня взяло. «Нет у меня папочки», — отвечаю. Он подумал, что папа погиб на войне, и покачал головой: мол, твой отец погиб на фронте, защищая Родину, а ты вот чем занимаешься… А сам все пишет, пишет… Потом вдруг задумался и спрашивает: «Это какие Сосняки, где химкомбинат?..»
…И не знаю почему, от этого вопроса у меня вдруг перехватило горло, что-то очень напряженное и особенное послышалось мне в его голосе. Я тихо говорю: «Да, где химкомбинат», а сама смотрю на его руку, она перестала водить пером по бумаге и замерла, такая белая, хотя и короткопалая, мужицкая рука. И я не вижу, но чувствую, как он откинулся назад и смотрит на меня. И я не могу поднять глаз. Чувствую по этой неподвижной, короткопалой руке, что сейчас произойдет что-то ужасное.
Потом я подняла голову. И на том месте, где только что было круглое румяное лицо, я увидела сгусток оцепеневших, окаменевших морщин, я увидела тусклые глаза старика монгола, умирающего в пустыне. Я даже не уловила движения его губ, просто услышала откуда-то: «Петра Андреевича дочь?» Я ничего не могла выговорить, только наклонила голову: да! «Софьи Артемовны дочь?..» И я шепотом отвечаю: «Мама в Александрове, у мамы минус после лагерей. А папу расстреляли». И вдруг мускулы на его лице, до этого напряженные, ослабли, лицо опять стало простым и круглым, он опустил локти на стол, сжал лоб руками, вот так вот, и по его щекам потекли слезы…
Это, Володя, было такое, что я тебе и передать не могу. По коридору топают сапоги, шум, телефонные звонки, а начальник всего этого, полковник милиции, сидит, сжав руками лоб, и плачет. Я тихонько говорю: «Сюда могут войти». А он глотает слезы, пожилой мужчина, и не стыдится меня, девчонки. И я всем своим существом чувствую и понимаю, какую жизнь прожил этот человек. И оттого, что он заплакал, оттого, что это так поразило его, дрогнуло и мое сердце.
Он отошел к окну и долго стоял спиной ко мне, сморкался в платок. И сел за стол как будто уже спокойный, официальный, на меня не смотрит, казенным голосом говорит: «Поскольку единственные ваши родственники проживают постоянно в Москве и площадь у них достаточная — прописывайтесь. Я вам дам отношение в паспортный стол». Я смотрю на него и улыбаюсь. Смешно мне, что перешел он на этот казенный тон, радостно, что хочет сделать мне хорошее. Он насупился: «Чему вы улыбаетесь?» Я говорю: «Знаете, лучше я вернусь в Сосняки. Когда это случилось, мне было три года. И подобрала меня одна простая женщина, землекоп. Она меня и воспитала. Как же я теперь ее брошу?» Он посмотрел на меня, у него опять задрожали губы и глаза наполнились слезами. И не забывай, Володя, это было в пятьдесят втором году.