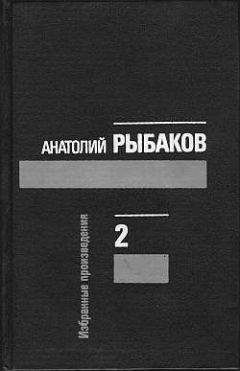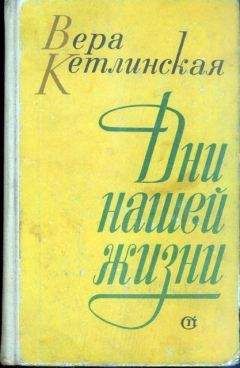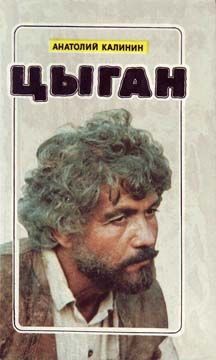Анатолий Рыбаков - Лето в Сосняках ис
В боях на Висле Чернину оторвало ногу. Миронов привез его в Сосняки. С тех пор у Чернина не было другой жизни, кроме больницы, он построил и оборудовал ее, никого не знал, кроме больных, и они доверяли ему.
Миронов любил Чернина. Чернин испытал самое страшное, что может испытать человек, и все же он слушал Миронова с доброй улыбкой. Он совсем не разбирался в той сложной и неизведанной химии, которой занимался Миронов. Миронову этого и не надо было. Его борьба, его искания требовали соприкосновения с человечностью, ее излучал этот маленький, одноногий доктор. Чернин имел дело с людьми, стоящими на грани жизни и смерти, человеческие страсти казались ему маленькими, иногда смешными, всегда простительными.
— У нас тут слухи, — улыбаясь, сказал Чернин, — больным до всего дело. Говорят, будто вас назначают директором завода.
— Хорошенькая новость!
— Ай, бросьте! Такой почет. И поможете нам построить новый корпус для физиотерапии. Это будет стоить совсем недорого. Электропроцедуры, нужны нам электропроцедуры? Водолечебница, нужна вам водолечебница? Массаж, лечебная гимнастика, лаборатория. У людей все это давно есть.
— Ну, раз есть у людей, нам тоже надо.
— Шутите, вам шутки.
Миронов думал о Лиле. «Для моего положения», — сказала она. А он ей ничего не ответил, не нашел что сказать, она и ее жизнь слишком сложны для него. Он не нашел нужных слов и тогда, когда она убегала от него, увязая в прибрежном песке. Почему он отпустил ее тогда? Он и теперь живет по формуле, теперь, когда формулы отброшены. Собственные страдания преодолевает и слабый, надо уметь разделять чужие страдания. Человек падает и подымается — это и есть жизнь, надо помогать ему — это и есть добро.
Чернин с доброй улыбкой смотрел на него:
— О чем вы думаете, Володя?
— О нашем времени, — ответил Миронов. — Пусть новое поколение не повторит наших ошибок, пусть оно повторит наши подвиги. В сущности, самая большая ошибка — ничего не делать.
15
Миронов включил фары, их яркий свет упал на дорогу, и сразу пропали и луна и деревья. Он выехал на шоссе и снова увидел луну, и полыхающее пламя заводов под ней, и быстро вырастающие белые огни встречных машин.
Дорога была сильно выбита, пересечена железнодорожными путями. Миронов два раза стоял у опущенных шлагбаумов, терпеливо ждал. Много лет каждый день ездил по этой дороге на завод и с завода и привык к ее неудобствам. И когда поехал по пустынным улицам города, прибавил скорости.
Район новых заводских домов был знаком Миронову. Но он бывал здесь только днем — ночью все выглядело другим. Выложенные из силикатного кирпича трехэтажные дома широко и просторно стояли на большой и голой территории. В ее песчаной необжитости была прелесть возникновения человеческого жилья, в тишине и безлюдности — мир и спокойствие спящего рабочего поселка, где рано ложатся и рано встают и нет ни ночных автобусов, ни запоздалых пешеходов.
В полумраке лестницы Миронов не заметил кнопки звонка и постучал.
Лиля встала с постели и, не спросив, кто стучит, открыла дверь, издалека, вытянутой рукой, поворачиваясь назад, как открывают дверь своим домашним, которые сами закроют ее за собой. Думала, что это Фаина.
Но на пороге стоял Миронов. И так, вполоборота, с вытянутой рукой, Лиля замерла на месте, босая, в длинной рубашке, неожиданно маленькая, со спутанными волосами, падающими на глаза и уши.
— Здравствуй, Лиля!
Она молча смотрела на него.
— Ты меня не узнаешь?
Он услышал за спиной стук открываемого замка, оглянулся и увидел Фаину. Она стояла в дверях своей квартиры, постаревшая, в длинном капоте, и щурила глаза, вглядываясь в полуосвещенный коридор, где стояли Миронов и Лиля.
— Явилась пропащая душа на костылях, — сказала Фаина так, будто Миронов приходил к ним часто, а последнее время что-то не заходил.
Вслед за Мироновым и Лилей она вошла в комнату, шлепая туфлями и придерживая на груди халат.
— Слышу — стучат, голос слышу мужской, что за мужчина такой явился? К нам и днем-то мужчины не ходят, а тут ночью. Не случилось, думаю, чего. А это вот он кто, Володя!
Лиля зажгла верхний свет, прикрыла постель.
— Я сейчас, Володя.
Румяная девочка спала в кроватке. Сколько ей? Три года? Пять? Миронов вспомнил маленькую Лилю у барака с куклой в руках.
— Видал ты нашу доченьку? — говорила между тем Фаина, поправляя на девочке одеяло. — Не видал еще? Вся в мамку, все крошечки подобрала, золотое мое колечко, солнышко красное. Теперь уже большая, все понимает. А маленькая была, на шаг не даст отойти, все ей надо, неспокойная, сгрибится и в слезы. Так, бывало, плачет, сердце рвет, колокольчик мой бесценный…
Вернулась Лиля в платье, в туфлях на высоком каблуке, с наспех подобранными волосами. Улыбнулась Миронову.
— Так и стоять будем? — сказала Фаина. — Принимай гостя! Есть чем принять-то? Накрывай на стол, добавлю. — И хотя Миронов не возразил, погрозила ему пальцем. — Ты это брось! Давно я с мужчинами не чокалась. Не заходят к нам мужчины больше, а тут такой случай! Хорошо, я услышала, кто-то стучит. Разве бы она меня позвала? Спрятала бы небось Володю? А, спрятала бы?
— Ладно, иди! — несколько сурово ответила Лиля.
Шлепая туфлями, Фаина вышла.
— Не сдается Фаина, — сказал Миронов.
— Прихварывает.
Лиля пошарила озабоченным взглядом по полкам буфета, потом расстелила на столе скатерть, поставила рюмки.
— Ты из какой будешь пить?
— Все равно.
— Тогда я поставлю тебе большую, Фаине поменьше, а мне совсем маленькую.
— Хорошо.
Вернулась Фаина.
— Вино есть! Заводи, Лилька, музыку. Как рюмку выпью, так музыки хочется.
— Сонечку разбудим, — ответила Лиля, не глядя на Миронова.
— Перекатим! — Фаина с готовностью взялась за кроватку. — Берись! Ах ты буксирчик мой драгоценный! Посмотри, Володя!
Миронов нагнулся к кроватке. У девочки дрогнули веки.
— Может, оставим? — с сомнением проговорила Фаина.
— Нет, нет, — Лиля не смотрела на Миронова, — бери, поехали!
Они осторожно повезли кроватку в комнату Фаины. Потом вернулись, оставив двери полуоткрытыми.
— На площадке только мы живем с Фаиной, — сказала Лиля, — никому не помешаем. И Сонечку услышим, если проснется.
Патефон оказался неисправен, хотя Лиля для вида и покрутила его.
— Никак не починишь, — проворчала Фаина, — ну ничего, было бы вино. «Эх, зачем я с казенкою спознался…» Расскажи, Володя, что нового на свете. Никуда я не хожу, ничего не знаю, живу, как темная бутылка.
— Побольше бы таких бутылок, — улыбнулся Миронов.
— Откуда нам чего знать? — продолжала Фаина. — Что видим мы в Сосняках? Ты хоть по всему свету ездишь, а мы? Только одну дорожку и знаем: на завод да с завода. Начихаешься за день, накашляешься. Говорю Лильке: переходи в контору, разве она чушка необразованная? Подумаешь, какие там грамотеи работают.
— Заладила, — сказала Лиля.
— Правду говорю! Пусть Володя скажет, он мужчина! Или в Москву переезжай. Теперь никто не запретит, теперь отдай, что положено. А в Москве мы замуж выйдем за генерала. А что? Повидала я генеральских жен…
— Выпей лучше, — заметила Лиля.
— И выпьем! — Фаина протянула Миронову рюмку. — Давай, Володя! Что мне, старухе, осталось? Ушли годы. А молодая была — пожила, погуляла, ничего не скажешь. И не жалею ни о чем. Да и сейчас, если бы кто под бочок завалился, не оттолкнула бы, ей-богу! Только нет любителей. Вон сколько молоденьких пасется, нет старухам вакансии. Вчера Верку Панюшкину встретила. Опять, смотрю, на низкий каблук перешла. «Что, Верка, спрашиваю, ухажера сменила?» А она мне: «Если мне человек нравится, зачем я буду его своим ростом обижать?» Потеха! Знаешь ты ее, Панюшкину Верку, на электролизе крановщицей работает?
— Помню, — улыбнулся Миронов.
— Мы ее тут каблучницей зовем. Как на низкий каблук перейдет, — значит, кавалер маленький. Обратно на высокий, — значит, и кавалер подходящего росту. Так по каблукам мы все ее амуры и знаем. И смешно, между прочим, если человек в свои годы взошел, должен он об этом помнить. А она мне ровесница.
— Сменила бы ты пластинку, — заметила Лиля.
— А что такого! Надо и по личному вопросу поговорить, правда, Володя? А то все о химии! Могу и о химии.
Фаина пустилась в рассуждения о химии органического синтеза. Они поразили бы человека постороннего. Нигде нет такого уровня технической подготовки рабочих, как в химии. Аппаратчица может говорить «ндравиться» и «пользительно», но она с легкостью исписывает лист бумаги химическими формулами, более сложными, чем те, перед которыми в тупом недоумении многие из нас стояли в свое время у классной доски.
— Только ведь нельзя одним производством жить, — заключила Фаина, — еще чего-то в жизни требуется. Некоторые общественной работой увлекаются. И меня раз подбили, — Фаина засмеялась, — в жилищную комиссию выбрали, решаем, кому дать, кому не дать, А как решишь? Всем надо, все нуждающие! Ну, думаю, вас к аллаху, разбирайтесь как хотите! Мы с Лилькой ни у кого не просили, отработали на стройке. И живем. Крыша над головой, отопление центральное, картошку на зиму запасаем. Чего еще?