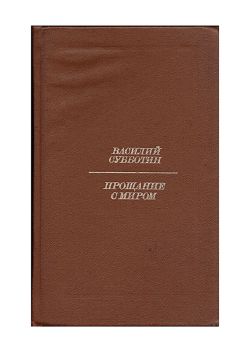Василий Коньяков - Далекие ветры
Один из наших писателей сказал:
«Новое искусство, если оно родится, будет, вероятно, состоять из знакомых нам форм. В художественной галерее двадцать второго века посетитель не попадает в другой климат; но он увидит, что новый художник — человек с более тонкой нервной организацией».
Я вспоминал врубелевского Демона, а передо мной вставали знакомые мне люди, обыденные и великие. Избитые войнами и жизнью, они не были поверженными.
Я еще не знал, что буду десятки раз переписывать этот портрет, забывая время. А тогда на душе было тоскливо, хотелось немедленно куда-то идти.
Я накинул телогрейку и остановился на крыльце. Был вечер, серый и неуютный. Блекли краски. Грязными пятнами сгущались избы под тяжелыми крышами. Чернели оттаявшие колья плетней. Какой-то холщовый вечер. После оттепели, что ли? Было тихо. В сумерках глохли звуки.
В редких избах зажигались неяркие и какие-то еще ненужные огни — проявлялись первые бабьи заботы.
Я подумал, что в сущности не к кому мне идти, никто, ну никто меня сейчас не ждет, ни у кого, ни в чьем сердце не оставлено для меня места. Для чего я художник? Для кого я художник? Ведь никому не интересно, кто я, есть ли я.
Из клуба вышли люди, и фигурки начали расползаться по дороге.
— Задержалась я, — сказала у порога мама. — Шли из подвала, да зашли в клуб. А там Катя Холшевникова выступала.
Мама разделась, телогрейку не повесила, а прижала к животу. Платок свалился с головы, обнажив сдавленные волосы и жиденькие косы с вплетенной тряпицей.
Ей не терпелось поделиться чем-то. Она сдерживала улыбку и не знала, как подступиться с разговором.
— Ящик на сцене поставила. Колесики крутятся, а из него музыка гудит. Ох, что она раздоказывала… В кофте черной. Обтянутая. Руками будто куделю теребит. Лицом приставится как мертвая, будто никого вокруг нее нет. Ногами выделывает, как глину месит или на горячую золу наступила — обожглась вроде. Очумеет совсем. Потом остановится и засмеется так, вздохнет. Это, говорит, танец такой заграничный — рог-рой. А вот эта музыка — ритм свежий. Новый танец про Сеньку. Его, говорит, вместе танцуют — дружка за дружкой. И туда-сюда, давай прыгать, вроде кобылки. Создаст же бог людей таких!
Мама вздыхает, отворачивается и вешает телогрейку.
— А потом стала и начала рассказывать складно. Говорит, как плачет. Ну, не плачет, а будто голос у нее перехватывает. Смотреть на нее жалко. Музыку нашла. Мы такую по радио выключаем: кричит больно, мешает. А она рассказывает о ней, и как задумаешься — правда, по ее выходит. «Вы, — говорит, — слушайте, слушайте, читайте. Здесь буквы знать не надо — сердце само читает». И правда, слушали — и понятно было. Может, мы и не понимали — наверно, она ее нам наговорила своим голосом, как хотела. У нас руки грязные после картошки. Сидим и думаем: «Есть же такие люди! А что мы?..»
А потом говорит: «У меня записан звон колокольный из собора Ростова Великого». — Включила. «Запись, — говорит, — недавно сделана».
Мама приостановилась, сказала раздумчиво:
— И даже у нас так не били. Звон медный, протяжный, и маленькие колокола подыгрывают. А она замерла, как святая. Я вспомнила, как наша церковь звонила в Лебедях — на двадцать верст слышно. Выйдешь утром весной… И я молодая еще… Вот ведь какая она… — Это мама сказала, наверное, о Холшевниковой. — Такие только в городе родятся, в деревне нет… — Она посмотрела с тайной горечью. — И муж у нее хороший.
И заторопилась вдруг, будто неловко ей стало. Достала чугун картошки из печки, высыпала в лохань у двери, посыпала сверху отрубями.
— Ты что опять такой? Раздетый выскакивал… Глаза у тебя будто куда уходят, теряются. Наверно, опять со своей краской возился?
И радость, с которой она возвратилась с работы, погасла в ней.
VII
В избу вошел Петька Прокудин, промерзшую дверь плохо закрыл — силы не хватило.
— Тетка Наталья, пусть к нам дядя Андрей идет, папка велел. Свинью надо колоть. Папка один не справится.
— Ты что же, пришел за мной, а разрешение у тетки Натальи спрашиваешь?
Петька поднял на меня глаза, но смотреть долго не смог — стеснялся.
— Только велел куфайку надевать.
— Ну, раз велел, — сказал я, — приду.
Прокудин встретил меня у ворот:
— Только с работы пришел. Свинью завалить надо. До темноты управимся.
На скамейке у двери лежал большой нож, остро отточенный, на дворе свален воз свежей соломы.
— Приходилось колоть-то?
— Раз как-то.
— Подержишь. Резак хороший. — Он взял нож, попробовал пальцем лезвие. — Сейчас баба мешанку принесет.
Свинья подбежала к корыту, окунула голову в картошку, страшно захлюпала.
— Лови заднюю ногу, — посоветовал Прокудин, а сам жесткой пятерней заскреб у свиньи за ухом, потом все ниже и ниже.
Свинья, хватая немятую картошку целиком, не слышала его почесываний.
Мы мгновенно поймали ее за ноги, подсекли и навалились на тяжелую, колыхающуюся спину.
Пока она, очумев, еще не кричала, Прокудин поднял ее левую ногу, чуть опрокидывая. В белую кожицу нож вошел легко, как в воду. И тогда ударила кровь, выбивая рукоятку. Свинья закричала разъяренно и запоздало. Крик забил уши и повис над деревней.
Прокудин ворочал нож, стараясь найти сердце, а кровь била далеко в снег, делая его розовым и ноздреватым, била в рукав Прокудина, а он все крутил и крутил скользкую ручку.
Я прижимал спину, а свинья сучила ногами так, что я ползал коленками на снегу. Крик ее уже ослабевал, был хрипл и стонущ.
Тогда мы поднялись.
Я помнил, что опаливать свинью совсем недавно считалось преступлением — нужно было сдавать государству шкуру. Ее долго снимали ножами, боясь порезать, осторожно оттягивали, и туша из-под нее появлялась лохматой, с исполосованными шматками сала.
И я не понимал тогда смысла слов, что обронил с укоризной соседский старик: «Теперь уж и не попробуешь русской ветчины. Настоящей, со шкуркой».
И вот сейчас вовсю открыто горела во дворе солома, а мы переворачивали тяжелую тушу на жерди, продетой меж стянутых ног. И когда касался огонь еще не тронутой щетины, она трещала, курчавилась, кожа обугливалась до костяной твердости. Прокудин скоблил ее ножом, сбивая сухую гарь. Я набирал пучки соломы, зажигал о костер и подносил огонь к тем местам, где не охватывало тушу пламя.
— Только не перепали, — предостерегал Прокудин, — а то лопнет, шкурка расползется. Мы там паяльной лампой обработаем.
Он сбегал в сенцы, накачал баллончик с ручкой, поднес спичку, и шумно забило тугое пламя из патрончика. Лампу Прокудин отдал мне, а сам окунал тряпку в ведро с горячей водой, промывал желтую окаменевшую тушу.
Во дворе в сумеречном воздухе пахло душной и удивительно знакомой, родной гарью.
— Хочешь попробовать? — сказал он. — Ребячье лакомство. Похрусти. — Отрезал конец хрящеватого, свернувшегося от огня уха, подал мне. — Деревню вспомнишь…
Прокудин был умелым хозяином. Я подкладывал солому в огонь, светил, а он выгребал парные внутренности, что-то отдирал с силой, горячее и качающееся, складывал в таз.
— Петька, иди мать зови!
Жена вышла из избы, Прокудин отрезал от похудевшего живота шматок мяса, подал ей:
— Иди, жарь. Мы скоро закончим. Приготовь там.
Тяжелая сковорода на столе была горяча, еще шипела и пылила брызгами сала.
Я сидел за столом и пробовал засол огурцов. Прокудин, вымывшийся, торжественный, вынес неполный большой графин чего-то и многозначительно поставил на стол.
— Ты постой, пока не спеши с огурцами. По одной пропустим, потом посмотрим, какого моя баба поросенка выкормила. А то, может, ей не за что подносить… — Налил полные чайные стаканы, один пододвинул ко мне. — Видишь, сколько? Помаленьку, помаленьку — и накапало.
— Много. Завтра голова разболится.
— Ничего, это не водка. От водки болит, а от ней нет. Чистая, черт, своя, без примеси.
Я выпил и не мог произнести слова. Что-то перехватило во мне, и я не мог выдохнуть.
— Что-то… — тихо произнес я, боясь своих слов, — они больно проходили, царапая горло. — Как огонь… Пожалуй, крепче московской. Градусов пятьдесят.
— Горит…
— Ну? — усомнился я. — Может, и не горит…
— Горит… Не веришь? Хочешь посмотреть?
— Хочу.
— Дай-ка посудинку.
Он поднялся, достал из шкафа алюминиевую ложку, плеснул в нее из графина.
Когда поднес к ложке зажженную спичку — я ничего не увидел.
— Нет. Это же не спирт. Градусов маловато.
— Горит.
И я заметил голубенькую синеву. Она будто оторвалась от ложки, прозрачно колыхалась нежным, еле видимым пламенем.
Я почувствовал, что моя голова полнится горячим хмелем, и спешно начал искать на столе вилку.