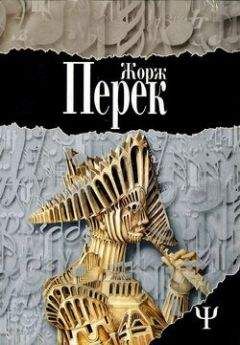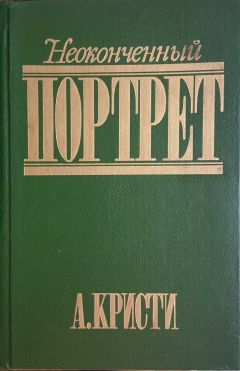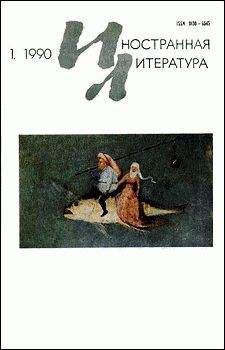Юрий Трифонов - Исчезновение
– Тебя же все любят, баба Вера!
– Я знаю... – Она кивает, кивает, не может остановиться. Медленно ползет по клеенке ее коротенький костяной палец. – Может быть, для них я и живу.
И еще разговор с бабушкой Верой. Тоже вечером и тоже они вдвоем в комнате. Игорь только что отужинал – съел тарелку супа, выпил чашку кофе – и лежит на диване с газетой.
Бабушка Вера, присев рядом с ним на диван, обращается с неожиданной просьбой: поговорить с Мариной насчет ее поведения.
– Она тебя уважает. Не знаю уж за что... – Бабушка Вера шутливо постукивает его легоньким кулачком в бок. – Может быть, просто потому, что никого другого в семье она уважать не привыкла. А ты какой-никакой мужчина... Ты должен ей сказать... Приведи примеры из истории, литературы... Ты же любишь литературу...
Игорь морщит лоб. О чем сказать? Какие примеры?
– Что в течение тысячелетий главной добродетелью женщины, – шепчет бабушка Вера, – считалась ее верность жениху, который воюет... Володя пишет нежные письма, высылает деньги... А тут этот Яша, этот Всеволод Васильевич... Я не могу понять... Меня, конечно, не спрашивают... Кто я такая?
– Но мне неудобно, – говорит Игорь. – Это уж ваше с тетей Диной дело.
– Мы с тетей Диной бессильны. Я давно не имею права голоса, а Дину она просто не уважает. Да, да! Она ее не слушает. Она ее жалеет, конечно, и любит, как мать, но уважения нет. Когда Дина как-то попробовала что-то сказать, она ее обрезала: «Мама, ты отказалась от живого мужа, так что не учи меня благородному поведению». Вот видишь! Я не оправдываю Дину. Она поступила против совести. Но, во-первых, она думала о той же Марине, о ее судьбе. И, во-вторых, Дина и Павел Иванович жили недружно еще до того, как все случилось... Я знаю, что пережила твоя мать. Знаю, что в Наркомземе от нее требовали, чтобы она отказалась... И Нюта, между прочим, при всей ее твердокаменности говорила Лизе: «Коля бы тебя не похвалил. Ты должна спасать детей. А то, что ты подпишешь какую-то бумажку, это сущая чепуха, вздор, Коля поймет, все поймут». Но Лиза не смогла...
Игорь думает: она не смогла стать другой. Превратиться в другого человека. Он видит давнее лето на даче, приезд тети Дины с высоким усатым человеком, Павлом Ивановичем, отец боролся с ним на Габайском пляже, стояла августовская жара, туда приехали на двух лодках, по пути соревновались, какая лодка быстрее, и Игорь сидел на руле. В тот день отец уронил в воду очки, и мама долго ныряла, пока не нашла их на дне.
– Ты говоришь: поймут. Но ведь Марина не захотела понять тетю Дину. Хотя сделано было ради нее...
– Я этого не говорила! Это сказала Нюта. Правда, я не уверена в том, что она сказала это только лишь...
– Ну?
– Ну, ты же знаешь свою бабушку. Она не похожа на обычных людей. Прежде всего она человек дисциплины...
Бочкин прошел в ванную, гремя там тазами. Зашумела вода. Сейчас он разведет свою гадость: разложит в тазы куски кожи, вытащит банки с кислотой, с ворванью. В ванную не зайдешь.
– Горик, поди, пожалуйста, поставь суп. Скоро Дина придет. И я тебя прошу: ни Марине, ни Дине ни слова, что я... Но ты сам... – Бабушка Вера закрывает лицо ладонями. – Поговори с Мариной! Она же гибнет! Неужели вы не видите, что девочка гибнет... ведь ее отчислили из института, она обманывает, не ходит ни на какие...
Бабушка Вера задыхается... Она плачет без слез, как плачут очень старые люди.
Игорь обещает поговорить с Мариной. А что ему остается делать? Но поговорить никак не удается: вечерами ее нет, а утром он уходит слишком рано.
Однажды он просыпается ночью от голода. Может, и не от самого настоящего голода, того, что когтит человека зверским желанием есть что угодно, лишь бы наесться, набить живот. Нет, ему не все равно что есть и чем набивать живот. Щи из квашеной капусты, например, какими кормят в столовой, он есть бы не стал. Овощную «безлимитку» тоже, пожалуй, не стал бы. Он просыпается от совершенно четкого и могучего, изнутри прущего желания: пожевать кусочек черного хлеба. Хочется тихо встать, подойти на цыпочках к буфету, открыть с максимальной осторожностью – чтоб не разбудить бабушку и тетю Дину – стеклянную дверцу, достать хлебницу и отрезать от вчерашней буханки ломтик толщиной примерно в десять миллиметров. Посыпать солью и запить водой из-под крана. Несколько секунд Игорь лежит недвижно, глядя во мрак и изумляясь этой хлебной причуде, разбудившей его среди ночи.
Сна ни в одном глазу, а желание ощутить во рту знакомую вязкую кислоту черняшки жжет все сильнее. Но он продолжает лежать. Нет, у него не хватит сил пойти к шкафу и совершить воровство. А что же, как не воровство: под покровом ночи оттяпать кусок от общей буханки? Ну и срам будет, если проснется тетя Дина. Баба-то Вера ничего не услышит, хоть из пушек пали. В том-то и весь ужас, весь стыд, что делается ночью, когда другие спят. Если бы вечером у всех на виду он подошел бы к шкафу и со словами: «Что-то я малость того...» – спокойно отрезал кусочек хлеба, это было бы вполне прилично и естественно. Но вот ночью, втихаря... Нет, невозможно! В десять вечера было возможно, а сейчас – он дотянулся рукой до будильника, всмотрелся в светящиеся цифры, – в три ночи совершенно немыслимо. Лучше погибнуть от голода. Представить только: тетя Дина вдруг просыпается, мало ли отчего, кольнуло в боку, и видит, как ее племянник стоит, белея кальсонами, у буфета...
Между тем желание черняшки – ничего больше, никаких пирожных, огурцов, ливерных колбас, ничего, кроме простой черняшечки, – становится нестерпимым. Печет внутри так, точно там, в желудке, поставлен горчичник. Бессознательно Игорь начинает примериваться, как бесшумней откинуть одеяло и как спустить левую ногу на пол, чтобы ничего не задеть. Какой все же вздор лезет со сна в голову! Неужели добрые люди, которые любят его как сына, пожалеют ему маленький ломтик хлеба, граммов сорок или пятьдесят? Единственная неловкость: то, что ночью. Но ведь будить среди ночи, чтобы сообщить о своем непобедимом желании пожевать хлебушка, было бы еще большей неловкостью. Было бы просто подлостью, тем более что бабушка мучается бессонницей, засыпает с трудом. А вообще-то в этом доме он главный, так сказать, «немец, хлебник аккуратный, в бумажном колпаке» – по рабочей карточке он зашибает семьсот граммов, тетя Дина по служащей зашибает пятьсот, бабушка Вера ничего, Марина тоже ничего.
Последнее гнусное соображение приходит в голову, когда он уже крадется босиком к буфету. С куском хлеба, посыпанным солью, и стаканом он скользит затем на кухню.
Зажигает свет, наполняет стакан водой и садится на стол – чтоб босые ноги не стояли на холодном полу, а болтались в воздухе – и принимается за трапезу. Мысли его не успевают ни на чем сосредоточиться, переносясь от Кольки, Авдейчика, новых матриц, которые слишком быстро выходят из строя, и криков Чумы по этому поводу (вчера перетягивали всю позавчерашнюю партию профилей, забракованных контролерами; матрицы необычайно быстро о б р юх а т е л и, и никто не заметил), от слухов насчет того, что скоро многих вернут с Урала, будут перестановки в цехах, выдадут ордера на шапки-ушанки к Новому году, от всего заводского, ставшего мучающим и близким, к наступлению западнее Ржева, к прорыву фронта, ко вчерашнему митингу в цехе, к Сталинграду и Тулону, где французские моряки взорвали свои корабли, капитаны оставались на мостиках и почти все погибли. И вдруг он явственно слышит, как во входной двери поскрипывает ключ.
Кто-то поворачивает ключ так же медленно и осторожно, как только что действовал он сам, открывая дверцу буфета.
Игорь гасит на кухне свет и на всякий случай вооружается кухонным ножом. Ключ продолжает скрипеть. Наконец дверь отворилась, слышны шепот, топтание на пороге, ставят что-то тяжелое. Голос Марины:
– Не надо, пусть здесь...
Еще какая-то возня, тяжелое передвигают по полу, шепчутся.
– Нет. Нельзя, потому что...
– Но я прошу!..
– Иди сюда! Вот сюда, на кухню...
Они входят на кухню. Зажигается свет. Игорь вжимается в стену, загораживается шкафом, но все же он на виду. В первую секунду он испытывает пронизывающий насквозь и убивающий, как разряд молнии, стыд, но затем ему становится все равно, его чувства убиты, и он погружается в оцепенелое и тупое равнодушие. Он слышит, как Марина вскрикивает, хохочет, он видит, как она падает на табуретку, как на щеках ее возникают красные пятна, из глаз катятся слезы. Он видит кожаную бекешу Всеволода Васильевича, его выпученные голубые глаза и рот, кричащий:
– Идиот! Так пугать женщину!
Потом Всеволод Васильевич исчезает. Марина сидит на табуретке, а Игорь все еще не может выйти из-за шкафа, потому что тогда он обнаружится весь с головы до ног. Марина, стискивая руками голову, бормочет что-то насчет «ужасного зрелища», насчет того, что не может видеть «этой гадости», «какой позор» и что-то еще. Он ничего не понимает.
Внезапно она говорит ясным, трезвым голосом: