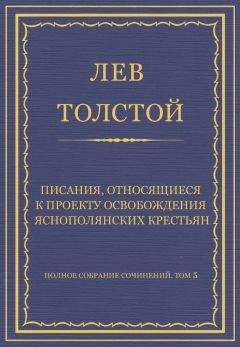Илья Бражнин - Прыжок
Нинка вся дрожала и готова была грохнуться на пол. Она это почуяла и заспешила выпроводить гостей.
— Ну, а теперь марш отсюда, да живей, — прикрикнула она, надламываясь в нервном подъеме, и, лихорадочно вытолкав обоих за дверь, опустилась тут же у двери на корзину. Страшная усталость охватила ее вдруг с ног до головы, и, съезжая на пол, тихо и жалобно сквозь стиснутые зубы, роняла Нинка:
— Сволочи, сволочи, сволочи!
XВ этот день люди, лошади, вывески, окна магазинов — всё кругом казалось Григорию враждебным, жалким, ненастоящим. Улица дышала в лицо пылью и унынием, хмурое небо давило, как крышка гроба. Но самое же нестерпимое, издевающееся и стыдное гналось за ним сзади от дверей нинкиной комнаты. И он бежал от этой злой погони по улицам, к реке, от реки к бульварам и оттуда по извилинам сети переулков снова возвращался назад.
Прохожие сторонились его, а ребята из коллектива, знавшие Григория, повстречавшись с ним, дивились его дикому, растрепанному виду и глядели, посвистывая, ему вслед:
— Свихнулся вовсе парень.
Промотавшись целый день без толку и смысла по пыльным ветреным улицам, Григорий осел к вечеру в «Лондоне» и там забился в темный уголок, размазывал по липкой клеенке стола вместе с пивной пеной свою едкую, сводящую с ума тоску.
Он старался не вспоминать сегодняшнего дня, сбросить с сутулой спины его тяжелую горечь и пил вдвое больше, чем всегда. Он лил в себя, как в чужого, одуряющие волны алкоголя, не чувствуя в горячем саднящем горле падающей внутрь струи.
Временами все вокруг него тускнело; густой табачный дым завивался в диковинные крутящиеся фигуры, в которых плавали звериные морды соседей. Но потом он снова приходил в себя и с беспощадной резкостью вспоминал малейшие детали позорного дня. Тогда он хватался за стакан и, стуча зубами о края, опрокидывал его в пылающую глотку.
Внезапно на плечо его легла чья-то рука. Гришка тяжело поднял голову и увидел перед собой красное мотькино лицо. Хотел вскочить, но ноги не повиновались ему с нужной быстротой, а через минуту он забыл о своем желании и снова погрузился в мутное облако своей пьяной бешеной тоски.
— Эге, и вы здесь, драгоценный товарищ! Вот не думал, что и вы в наши пещёры заглядываете. Вот ведь какой счастливый случай на мой судьбу выпал. Дозвольте присесть?
Не дожидаясь ответа. Мотька сел, и вкрадчивый, скрипучий его голос продолжал выводить под самым ухом Григория:
— Скучаете? По совести сказать, оно и есть от чего. Я бы на вашем месте, может, еще и не так закрутил. Эй, Вася, пару пивка закинь сюда! В самом деле, ежели рассудить не торопясь — и злы же бабы, хвать их мать! Калят нашего брата почем зря. Жгут огнем медленным. Едят без гарниру, вши ползучие. А потом обсосут — и к свиньям. И что досадней всего — надсмехаются. Надсмешки вот эти всего досадней. Конечно, на кого попадешься, надсмешничать не со всяким можно. Был, помню, случай такой. Строила тоже одна с Судоремонтного издевку над парнем. А парень лихой — пальца в рот не клади. Послушал, послушал, да и поиграл ножичком. Да диво-то не то, что подрезал он ее, а диво, что как через три недели отходилась, так сама к нему на шею виснуть стала. Баба, брат, струмент тонкий, бабу понимать надо… А главное, слюнить нельзя. Слюней они страсть не любят.
Снова налил Мотька стаканы; Григорий насторожился, почувствовав внезапно острый интерес к мотькиным речам и притягивающую силу их. Он как будто даже немного отрезвел. Мотька заметил перемену, происшедшую в Гришке, и вплотную подвинулся к нему:
— Ваша-то, видать, крепких любит, чтобы парень весь в кулаке был. Это есть такие. Покажи им слабость — и пропало, а как с ножом к горлу, так мил человек. Такие жарче любят, — подмигнул Мотька: — изомлеешь с ним. Как зверь вцепится. Забудешь, на какой земле на карачках до нее ползал. Ажно у самого волосы под мышками дыбом встанут. Это, брат, самая сладкая баба. Таких надо нахрапом брать.
Гришка теперь неотрывно следил за ртом Мотьки и распалялся от едкой жаркости грубых мотькиных слов. А Мотька все говорил и говорил, источая неиссякаемый ручей палящих, одуряющих слов, и все подливал и подливал в Гришкин стакан, пока хмель и слова не сплелись в гришкиной голове в один жгучий бешеный клубок. Он дрожал и яростно раскачивался в напитанном кровавыми и сладострастными образами тумане. Он смутно чувствовал, что подымается и идет куда-то, цепляясь за мотькино плечо. А потом все ушло за колеблющийся занавес красноватой мути, и лишь на мгновение врезалась в сознание сверкнувшая в мутном свете стеклами, медленно открывающаяся рама окна.
Но и этого не помнил Гришка, когда на другое утро проснулся в своей комнате.
Лежа в кровати, шарил он за окном застекляневшим взглядом. Зыбился туман за мутным стеклом, зыбилась голова в тумане. Гришка дрожал под теплым одеялом (никак не мог согреться), дрожал и думал. Думал о вчерашнем и додуматься никак ни до чего не мог. Силился вспомнить что-то. Знал, что нужно, до зарезу нужно что-то вспомнить, и не мог. Заколодило, засорилось что-то в голове и никак не прочищалось. Стояло это неведомое, непроявленное в сознании, как непрожеванный ком в горле, душило и мучило. В висках стучало, верещало в груди, дышать становилось трудно. Жуткое и звериное повисло за плечами. Сбросить бы, скинуть, освободиться! Но как сбросить, когда не знаешь что? Григорий морщился и, мучительно подергивая левым глазом, хватался да голову:
— А, проклятая!
Он колотил в нее кулаком как в пустую картонку из-под шляпы, и ему казалось, что у него в голове гудит и ухает так же, как должно гудеть и ухать в пустой картонке, и что колотит он по чужой голове. Все вокруг было тоже чужим и враждебным. Григорий оглянулся как заблудившаяся в болоте овца. В самом деле, разве он не заблудился самым страшным образом в своей собственной памяти? Он не мог найти в ней то, что ему надо было найти во что бы то ни стало, без чего всё вокруг делалось жутким, угрожающим. Снова и снова начинал он пытать себя, пытать свою память.
Утром он был в городе, потом пошел на пристань, потом комната Нины, потом бульвар, улицы, трактир, Мотька, потом… потом он не помнит… Все тонет в мутном оплывающем тумане.
Григорий закутался с головой в одеяло. Снова начал перебирать в уме — пароход, комната Нины, бульвары, улицы, трактир, Мотька и… провал. Час лежал он неподвижно, как мертвый, потом вскочил и принялся ходить по холодному полу — длинный, худой, в одних кальсонах. Но босые ноги быстро стали коченеть, и Григорий в лихорадке, стуча зубами, опять сел из кровать. Он сидел, поджав ноги и обняв их руками, уставившись неподвижными глазами в белый прямоугольник дверей.
Он словно ослеп, оглох, лишился всех чувств, кроме одного, которое вело бешеную работу внутри его пылающей головы. Он не слышал, как мимо окна прогромыхали тяжелые шаги; он не слышал, как они протрещали шаткими ступенями крыльца, приблизились к его дверям, как открылась дверь и в комнату вошли люди. Но внезапно зрение возвратилось к Григорию, и он впился глазами в то, что держали перед его лицом. До него дошел низкий голос:
— Это ваша фуражка?
Шапка, конечно — это его шапка. Но почему на шапке кровь? Волосы на затылке Григория медленно приподнялись. Глаза широко раскрылись. Он видит, он видит все. Эти капли крови… Провал мгновенно заполнился. Он видит — на постели она… Нинка… мертвая, с ножом под грудью.
Григорий вскочил и с воплем бросился на милиционера.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Большая горка дней накопилась за плечами. Дни — вихри, дни — омуты, дни — жернова. Один катится золотой дыней в белесом мареве будней, и сладкий сок каплет с губ счастливчика, закусившего его жадными зубами, а соседний застревает в глотке горьким жгучим инбирем. А там один срывается с бесконечной рабочей цепи и летит к небесам этаким чортовым огненным фейерверком.
Всяко бывало у Джеги. Прежде как-то не замечал разницы в днях. Были все, как братья, похожи друг на друга лицом и повадкой. Все как один — тугие, рабочие заботливые дни. Теперь каждый день на свой манер. Юлочкины радости, юлочкины горести, юлочкина страсть красили каждый из них в другую краску, каждый делали особым.
Были меж ними битвы шуточные и нешуточные. Затевала бой Юлочка. Утром, одеваясь, хмурила Юлочка тонкие брови:
— Негде повернуться. Хоть на крыльцо беги одеваться. Некуда тарелки поставить. Когда уж кончится эта несчастная теснота!?
А позже, когда Джега шелестел бумагами за обеденным столом, Юлочка жаловалась снова:
— Приткнуться некуда почитать. Хоть бы диванчик какой-нибудь был. — Потом безнадежно махала руками:
— Впрочем, если б и был — все равно поставить некуда.
Джега отбояривался как мог:
— Чудачка! Где же тесно? Две-то комнаты на двоих тесно?
Руки Юлочки беспокойно метались перед джегиным носом.