Василь Земляк - Зеленые млыны
Выведется когда-нибудь эта славная фамилия, корни которой не сыскать среди нынешних лемков — она, верно, восходит еще к их нездешнему прошлому, ног да они перекликались в горах, как какие нибудь астурийцы или андалузцы. Представьте себя на одном из тех бурых шпилей, где гнездились предки Киндзи, наберите в грудь как можно больше воздуха (горного!) и крикните: «Ки ип дзя а а а!» Как бы ни были Киндзи глухи, а услышат вас, ведь такого мелодичного звучания трудно достичь в каком нибудь другом имени.
Было как раз безветрие, в соседних селах остановились ветряки, вот все и ехали сюда, к Киндзе. Мельницу трясло, как в лихорадке, она чадила своей трубой день и ночь, паровозы знали эту мельницу и приветствовали ее гудками, радуясь, что в Зеленых Млынах пошел новый хлеб. Ведь всю зиму и всю весну мельница не подавала признаков жизни. Аристид выжил, а с ним выжили и лемки! Как славно для них нынче покачивается месяц, пойманный в белый невод лета над зарослями донника, куда летит знакомое:
— Ки ин дзя а а!
Еще несколько ночей молотилка словно соревновалась с мельницей, когда же она умолкла и рыжее облако пыли опало на ток, никому не хотелось уходить отсюда, ни учителям, ни нам — так мы все на этой молотьбе сдружились и породнились. От скирды, которую вывершил Сашко Барть, зарекомендовавший себя прирожденным скирдоправом (теперь это признали все!), пахло хлебом, донником, а внутри ее, если прислушаться, что-то шевелилось, шептало, как живое, и так будет до поздней осени, пока ветры и дожди не утрамбуют ее, а в морозы Ярема будет ходить сюда с крюком, от ко торого у него всю зиму не сходят с рук мозоли. Сам Сашко Барть побаивается этих мозолей, словно приклепанных к огромным ручищам сторожа.
Заканчивали молотьбу ячменем. Этот злак и в Вавилоне оставляют напоследок. Лемки сеют «Анну лоофдорфскую» — пивной сорт, который потом отправляют в Тыврово на пиво. Может быть, и это была «Анна лоофдорфская», но такая кусючая, с такой жалящей остью, что просто спасу нет. Недаром же, когда ячмень выбрасывает колос, в рощах умолкают соловьи — давятся его усом. Это бог знает что — после ласкового, как шелк, овса молотить ячмень, да еще если стоишь на сбросе или на полове. Вот почему, несмотря на поздний час, кто то бросил клич пойти всей бригадой на пруд — купаться.
Ребята захватили глубокие места, у запруды, прыгали в воду с «монаха», еще белого, только этим летом поставленного здесь каменного шлюза, через который вода из речки попадала в пруд. А девчонки купались у мостков, где Паня Властовенко каждую неделю стирает белье. Если б не лупа и не Сашко Барть, прикрывавший свой срам ладошкой, мы вполне могли бы купаться вместе с девчонками. С пруда видны были сад и Панина хата на горе в паутине антенн. Паня, верно, уже спала, не слыша нашего гама, ее звено работало на скирдовании, а снопы этим летом были тяжелые. И такое между нами кричащее, такое трагическое неравенство, что и выхода из него нет никакого. Чтобы приблизиться к Пане, полюбоваться ею, приходится становиться то муравьиным царем, то водяным. Будь я Аристидом Киндзей, мельником, то уж кому кому, а Пане молол бы без помольного. А будь я Лелем Лельковичсм и знай так историю, как он, — увез бы Паню подальше от Зеленых Млынов, ну хотя бы в Вавилон, в сады Семирамиды, или к финикиянам в Трир…
После молотьбы Мальва спросила меня, не скучаю ли я по Вавилону… Она тоскует по сыну и собирается туда после уборки, ей дадут подводу, так что я могу поехать с ней. Сказала еще, что я вырос и становлюсь похож на Андриана, моего дядю, ее первого мужа. Да уж, наверно, вырос, если влюбился тут в Паню Властовенко… А Мальва воспряла в Зеленых Млынах, обветрилась, даже как то покрупнела, но все так же дьявольски хороша, как прежде. Лель Лелькович влюбился в нее на этой молотьбе; за стол, который наспех соорудили в саду под грушами, он сажал ее рядом с собой, и так вместе они обедали и ужинали, ели блюда, которые готовила для нас учительница литературы Мария Вильгельмовна Пасовская. Ночью, когда молотилку на час другой останавливали, чтобы дать нам передохнуть, Лель Лелькович приглашал Мальву в помещение, от чего та наотрез отказывалась, предпочитая отдыхать здесь, под скирдой, как все. Из за нее отказывал себе в домашнем комфорте и Лель Лелькович. Как то лежат они вот так под скирдой, беседуют о том о сем, как вдруг снова Журба на «беде». Справился у Яремы, где Мальва, подошел, увидал их рядом и, не сказав ни слова, уехал со двора. Журба — человек гордый, больше не появлялся на школьном току, но Лель Лелькович, побаиваясь, что агроном снова заглянет, оставлял теперь Мальву под скирдой, а сам уходил спать домой, у него там была высокая кровать с чугунными спинками, на которой, говорят, сам Гордыня спал — такого изысканного литья теперь не встретишь.
А тут он отважился привезти Мальву на пруд. Посадил на велосипед и привез. Сошли они под вербой. Мальва побежала пробовать воду. Вода — как кипяток, нагрелась за день, а Мальва любит воду холодную, чтобы проняло. Заметив агрономшу, Сашко Барть велел нам убираться с пруда, побежал прогонять с мостков девчонок, там сразу поднялся такой крик, что пришлось вмешаться Лелю Лельковичу с того берега: «И не стыдно тебе, Барть?!» А какой уж тут стыд, если надо освободить пруд для директора?
Мы шли в село свежие, бодрые под водительством великого скирдоправа и жалели, что молотьбе так скоро пришел конец.
— Хочешь, я познакомлю тебя с Аристидом Киндзей, нашим мельником? — спросил Сашко, останавливаясь у поворота на мельницу. — Это мой друг. Не веришь?
Я знал, что Барть любит бывать на мельнице, в особенности когда там страда. Он помогает Киндзе собирать помольное, следит за очередью, даже выпивает с
помольцами и тогда совсем забывает о школе. А тут признался, что, как помрет Киндзя, то он, Барть, зай мет его место, сложит себе хату возле мельницы, за
ведет голубей и горя знать не будет. Что нигде он, Саш ко, так хорошо не чувствует себя, как на мельнице, от которой берут начало и сами Зеленые Млыны.
Ночь выдалась завозная, как и всегда первые ночи после жатвы. Привязанные к телегам лошади жевали сено, в зарослях улеглись волы прямо в ярмах, помольцы, чья очередь еще не подошла, спали под открытым небом, на мешках. А на самой мельнице не протолкнешься, то тут, то там — гомон, смех, хотя я ожидал здесь торжественной тишины, а может быть, даже печали первого хлеба. На мельнице стоял какой то нереальный, полумистический гул, соединявший, казалось бы, несоединимое и сводящий все к ровному и свободному вращению жерновов, такому же плавному, как на водяной мельнице, где это делает вода. И лад всему этому бурлению, скрежету, вращению шестерен и колес давал Аристид Киндзя, маленький дьявол этого ада, где пахло хлебом, словно только что вынутым из печи.
— Вон он, — показал Сашко.
Киндзя стоял сложа руки наверху, у ковша, усталый, высокий, сосредоточенный, вслушивался в работу камней. На нем была серая кепка, под которой не умещались седые вихры. Он поздоровался с Сашком кивком головы и снова стоял неподвижно, словно бы и ненужный здесь. Подал знак какому то усачу засыпать, а сам спустился вниз, к лоткам.
А там — я сразу заметил — Паня. Вырядилась, как на бал, только что босиком. Хорошо смолол ей Киндзя, улыбнулся, растирая в пальцах муку.
— Непревзойденно! — сказал. — Приходите на пироги.
Паня отцепила мешок, потрясла, уплотняя муку, завязала. Попросила Киндзю помочь ей взвалить мешок на спину, и уже присела, но тут сам черт толкнул меня опередить Паню, взявшуюся уже за узел.
— Я снесу!.. — сказал я смутившейся Пане.
— О, какой рыцарь! — и Киндзя взвалил мешок мне на спину. — Чей это?
— Вавилонский. Мальвин родич… — ответил кто то из за спины Бартя.
Иронический смешок проводил меня до дверей, но теперь, если бы даже и вся мельница расхохоталась, отступать было поздно. Когда вышли, я спросил у Пани:
— Куда нести? Домой? — дескать, могу отнести куда угодно.
— Домой, домой. Обещал заехать Журба, да что-то его «беды» не видно. Забыл или все еще скирдует? А тут два с половиной пуда… — пожаловалась Паня.
— А мне раз плюнуть… — Я даже подпрыгнул с мешком, чтоб знала, с кем имеет дело.
Паня хотела идти по дороге, все еще надеясь встретить Журбу, который поедет с поля. Но ведь этой же дорогой поедут с пруда Лель Лельковяч с Мальвой — я прикинул, что им как раз пора возвращаться, хотя там, на пруду, ничто их не торопит: вода теплая, ночь хороша, можно купаться сколько угодно.
И я уговорил Паню идти напрямик, так ближе. А Журба пускай скирдует свой клевер.
Если же Лель Лелькович и до сей поры на пруду, он, наверное, остановит меня — это предположение сразу сделало мешок куда тяжелей, чем он показался мне сначала. И однако — почему я, сознательный школьник, к тому же влюбленный в историю, как и сам Лель Лсльковнч, не имею права помочь Пане, у которой муж в дальнем рейсе и которой никто не выделил подводу, чтоб отвезти муку с мельницы? Вы же видите, Лель Лелькович, что Паня высокая и ей вон как высоко подымать этот мешок с земли, а мне его нести — одно удовольствие…

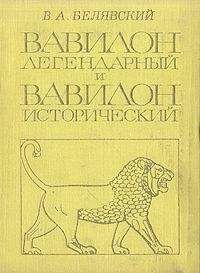


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)