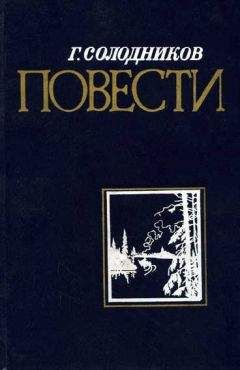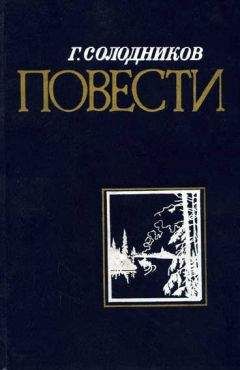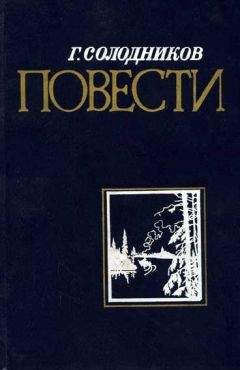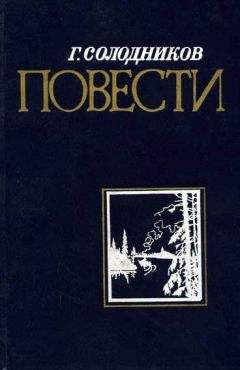Геннадий Солодников - Лебединый клик
Последний ряд! С силой втыкаю лопату и валюсь в желтую колючую траву, распугивая поздних кузнечиков. Теплая, родная земля подхватила и понесла. Закружилось глубокое небо с редкими рваными облачками, как трепаная кудель.
Звенит в ушах — кружится, пульсирует кровь с разгона. Руки, ноги гудят — с непривычки гудят, от разбуженной силы. Эх, сейчас бы кваску холодненького — и опять можно копать, пахать, валить. Эге-ге-гей! Что вам надо еще, какую делать работу? Все по плечу…
Всего несколько дней живу в полях да в лесу, а вспомнили руки, что умеют и могут многое. Дело им дай, разохотиться позволь — вытворят чего никогда и не было.
Эх, мечтать хорошо! А кто будет дело править? Тетка моя, Маремьяна, уже баб-подружек подняла, повела табуном на картофельные кучи. Замелькали руки, полетел во все стороны стукоток-звон. А я же — их кровь, их кость. Ну кто я, куда я без них? Они за мной шли, подгоняли, теперь тянут за собой. В чем эта связочка невидимая? Только ли в сегодняшней работе, в общем-то маленькой, обыденной? Одно чувствую: есть она, не порвать, не разрушить ее.
Споро работают женщины — любо. Тетке Маремьяне за восемьдесят, согнуло ее, ноги отекли, лицо все иссечено временем, задубело. А бойка, ой бойка! Сколько помню ее, живет все одна. Мужицкое, не мужицкое дело — все сама, до мелкой малости. Рано умер муж, жизнь гнула, ломала — сколько на веку своих маленьких бед, сколько больших, народных! Одних войн… А ни к кому не ходила на поклон, выстояла и дочь с рождения больную больше пятидесяти лет держит возле себя.
Глянула тетка на подружек:
— Что-то мы без песни сегодня. Заведем? — И начала глухо, хрипловато:
Не сподумала девка красная,
За молодца замуж я пошла…
Подхватили женщины, полилась старинная печальная песня Бесхитростный рассказ о бабьей доле.
Вот настала страда тяжелая,
Да со серпом я жать пошла,
Уж я жала да рожь высокую,
Да слезы в три ручья лила.
Не успела оглянуться — промелькнуло лето, подошло новое дело — молотьба.
Молотила я, думу думала…
Не крестьянка я, не дворянка я,
Да я крестьянская жена.
Старые крестьянские жены… Вдовы они уж. Так подобралось, что все помощницы, кроме моей матери, давно похоронили своих мужей. И теперь вот поют бесстрастно, словно не о себе рассказывают, а о ком-то другом. Стирает время краски, глушит помаленьку боль. Да и жизнь берет свое. Дети поднялись, внуки пошли в рост. О них сейчас все заботы…
Под песню да разговоры быстро закончили работу. В тележке, прицепленной к мотоциклу, свозили картошку домой. И стали мыться да готовиться к ужину. Помочь в наших краях — это работа до устали, а вечером обязательно обильное угощение, гульба.
…За составленными в ряд столами сразу стало тесно и шумно. Заблестели глаза, посыпались прибаутки. Женщины вспоминают, как праздновали они бабье лето в недавние годы. Выносили посередь зеленой улицы стол, лавки, выставляли кто чем богат и собирались по-соседски. Обязательно без мужей, даже у кого они и есть. Гуляли допоздна, пели любимые свои, девичьей поры, песни.
И сейчас, оставшись одни — мы, мужики, вышли на крылечко покурить, — они тоже поют. Песни большей частью грустные, незнакомые мне. А вот эта уже слышанная сегодня на поле. Теперь ее завела тетка Татьяна. Голос у нее крепче, да и старается она, чтобы было попереживательнее, — больше тягучести в словах и тоски.
Муж приедет с торгу пьяненький,
Я лошадок распрягу.
Если спать ему захочется,
Постельку мягкую да постелю…
Хрипловатый голос тетки Маремьяны тоже слышен хорошо. Он удивительно бесстрастен, будто слова песни совершенно не волнуют тетку, словно за ними не может таиться ни воспоминаний, ни отголосков былых страстей. Но я не верю в это. Просто тетка моя кремень. Не верю, потому что недавно совсем случайно узнал такое, о чем в нашей семье никогда даже разговора не заводили.
…Было это еще в старой России. Тетка Маремьяна, тогда попросту Маша, была замужем за рослым чубатым Григорием. Первые годы жили да радовались, а потом сильно приболела Маша. Почти год она и по избе-то еле-еле ходила. Григорий кругом все один да один. Пахать, сеять — сам. Жать, вроде бы дело больше женское, — опять сам. А на соседнем поле, тоже частенько одна, — Танюша-краса, длиннокосая певунья. И потянуло их друг к другу. Извелись все: у одного — жена, у другой — муж, а ничего поделать с собой не могут. Муж Тани Петр уж коситься стал, Маше бабы всякое нашептывали. А Григорий с Таней только тем и живут: как бы хоть на минутку увидеться, словечком перекинуться.
Что уж между ними произошло — неизвестно. Только однажды зимой спозаранку поехал Григорий в дальнее торговое село на базар и Петра с собой пригласил. Часа через три, уж светать стало, пригнал на взмыленной лошади в улицу, сам ошалелый, без шапки, в кровище весь, лицо рассечено. А в розвальнях Петр, уже остывший, лежит.
Как, что было — только ночь студеная да зимний лес знают. Может, в Петре обида-ревность взыграла, первым он бросился на Григория? Или Григорий все заранее продумал и специально затеял эту поездку? Сам он одно и то же твердил и людям, и в участке. Дескать, в темноте напали на них разбойники. Петра успели топором тюкнуть. А он отбился, только лицо да руку посекли, и угнал от грабителей.
Через несколько дней, лишь успели Петра похоронить, взяли Григория под стражу до полного выяснения.
Откуда только у Маши силы взялись. На удивление всем, каким-то чудом поднялась она и поехала в волость. Как уж удалось ей, деньги ли помогли, но вызволила она Григория. Отпустили его «за отсутствием веских улик».
А вслед за этим в один из дней разнесся опять по улице страшный крик. Выбежала неодетая на мороз мать Тани, кофту на себе рвет, головой о стенку колотится. Бросились к ним во двор, на сеновал — висит Таня под стрехой, волосы густые, распущенные, заиндевели уже…
Встала со временем Маша на ноги — Григорий слег, да так, что больше и не поднялся. На несколько лет приковала его болезнь к постели. Маша за ним, как за малым ребенком, ходила-ухаживала. И никогда за прошлое — ни словечком. Говорят, не раз плакал Григорий и жаловался близким:
— Виноват я перед Машей — прощенья мне нет.
Умер Григорий вскоре, а Маша так и живет одна.
Старуха она теперь преклонная, но хоть и бесстрастным голосом поет, знаю я, что былой пожар, картины пережитого до сих пор туманят ей глаза.
Вот все тише, тише голоса — на исходе песня.
Спи, хорошенький, спи, пригоженький,
Да больше слов тебе я не скажу…
Когда я вернулся в избу, женщины сидели молча, с просветленными лицами. Я знал, что они сейчас заведут между собой разговор о чем-нибудь своем, поэтому не стал мешать и тихо вышел.
Уже за полночь я отправился в чулан.
Было тихо и темно. Лишь четко выделялся на фоне неба переплет оконной рамы, в стекло заглядывала дрожащая низкая звезда. В дальней улице кто-то протарахтел колотушкой. На лавочке под окном раздался переливчатый тихий смешок, шепот. Прямо пахло сухими травами, развешанными по стенам, мукой, солодом и многолетней амбарной пылью.
Я лежал на просторной деревянной кровати, пережившей не одно поколение, и вспоминал слова сегодняшней песни.
Засыпал я с ощущением большой тихой радости. Ведь есть по деревням и селам такие дома, где меня всегда примут, есть такие люди, которые всегда обогреют. Что бы со мной ни случилось, среди них я могу снова набраться силы и мужества. С их помощью приблизиться к родной земле и обновиться.
Просто никогда раньше не представлял себе так отчетливо: что бы сталось со мной без этих людей…
БЕЛАЯ ЛОДКА
За два осенних наезда в деревню я, казалось, уже стал забывать о поездке к рыбакам. И вдруг — это письмо от Семена. Острее всего оно напомнило мне о последних днях наших лесных скитаний, о разведочном походе на озеро Большой Кумикуш.
…Пройдя с километр по настилу из сосновых кругляшей, мы еще около сотни метров брели по болотине вдоль канавы для лодок, выкопанной рыбаками, и очутились на зыбком берегу озера Челвинского. Неподалеку покачивалась доверху заполненная большая лодка, заиленная, без уключин, без скамеек. У меня екнуло сердце: и на такой плыть в волну через все озеро?
Немало повозившись и вымокнув, мы вытянули и перевернули лодку. Берег сразу осел, и наши ноги снова оказались в воде. Но, кроме меня, пожалуй, никто не обратил на это внимания. Два наших проводника и Семен вытесали деревянные клинья и наперегонки запостукивали топорами. Через полчаса лодку было не узнать. Проконопаченная, вычищенная, с приколоченными скамейками, она уже не вызывала недоверия — хоть куда плыви.