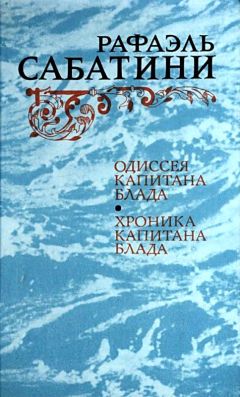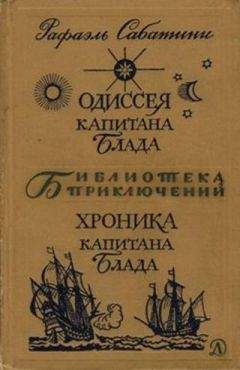Владимир Монастырев - Рассказы о пластунах
Лена вышла замуж! Комбат горько усмехнулся. Вроде бы ничего с Леной его и не связывало. Он с ней учился в одной школе, потом, когда приезжал в отпуск из училища, они катались в лодке, ходили в кино. Он ей слал письма, начинавшиеся: «Здравствуй, Лена…», в конце стояло: «Дружески жму руку…» Она отвечала в том же духе. Потом переписка оборвалась, но Петренко все казалось, что есть на свете девушка, которая помнит и, может быть, ждет его. Думать так было очень хорошо, и комбат любил эти свои мысли. И вот — Лена Якимчук вышла замуж… Петренко стало грустно. Они ехали по широкому полю, на нем ровным слоем лежал снег. А дорога была уже тронута весной: в колеях и выбоинах стояли лужицы. Их покрывал тонкий ледок, он с хрустом ломался, и из-под колес летели веселые брызги.
Чухлеба комбат разыскал в команде выздоравливающих. Команда занимала две хаты со светлыми горницами. В одной из них за чисто выскобленным столом сидел Андрей Андреевич и читал вслух газету. Когда вошел Петренко, он встал и привычно вытянул руки по швам.
— Сидите, сидите, — сказал комбат, протягивая руку.
Казаки, слушавшие чтение, вышли из комнаты, и майор сел к столу. В комнате было тепло, пахло свежевымытыми полами и чуть-чуть папиросным дымком. На Петренко снова накатила грусть, и он вдруг все рассказал Андрею Андреевичу — о письме и о матери, о маленьком городке на берегу моря и о Лене, которая вышла замуж.
Чухлеб слушал, подперев ладонью свою лобастую седеющую голову, в его умных слоновьих глазах была грустная улыбка. Комбату казалось, что он все понимает, сочувствует, и на душе у Петренко становилось легко, покойно. Никаких утешений ему не требовалось, и он был благодарен Чухлебу за то, что тот слушал молча.
Только провожая комбата, на крыльце, Андрей Андреевич, щурясь и принюхиваясь, сказал:
— Да-а, весной пахнет. Удивительное время года — весна!
— Удивительное! — согласился Петренко. Улыбнулся и крепко пожал Андрею Андреевичу руку.
Возвращаясь к себе, комбат встретил Проничева.
— Товарищ майор, — сказал Проничев, — помнится, вы просили ординарца вам подыскать. Есть у меня на примете: молодой, храбрый. Вам понравится.
— Спасибо, — ответил комбат. — Только мне нового ординарца не нужно: Чухлеб скоро поправится.
КИСЕТ
Войну пластуны кончали в Чехословакии. Перевалили через Судеты и спустились в зеленые долины, изрезанные многими дорогами, украшенные уютными городками и чистенькими селами. Был май, набирала силу весна, и у людей вокруг было весеннее настроение: с великой радостью встречали чехи советских воинов — своих освободителей. Всюду яркие национальные костюмы, цветы, музыка, улыбки. В городах и селах, на улицах и площадях возникали митинги, на которых люди говорили взволнованные речи — о великом братстве, любви и дружбе, которая навеки скреплена кровью… Светлые слова радости, горячие поцелуи, счастливые лица — ото всего этого у солдат сладко щемило сердце.
А навстречу, прижимаясь к обочинам дорог, целыми подразделениями брели сложившие оружие гитлеровцы. У них были серо-зеленые, пропыленные мундиры и такие же лица. Они брели понурые и угрюмые, тяжело поднимали ноги, тусклыми взглядами смотрели в землю. Они шли, как мрачные тени. И, как на тени, люди не обращали на них внимания, отворачивались, словно боялись, что хоть капля человеческой радости достанется этим серо-зеленым живым мертвецам.
В маленьком городке пластуны остановились передохнуть. На квадратной площади с незнакомым памятником играл чешский оркестр. — не то симфонический, не то духовой — были тут и скрипки, и труба, и крохотный барабан. Играли увлеченно, весело и ладно. Тут же пестро одетые девушки плясали с казаками. Подошли два старичка, чистенькие, опрятные, в черных сюртуках и накрахмаленных ослепительных манишках. Они жали пластунам руки, благодарили и плакали, роняя крупные слезы на блестящие лацканы сюртуков.
Сержант Гнатюк отвел свое отделение в сторону, под клены с густыми кронами-шапками. И здесь их тотчас окружили чехи. Угощали виноградным вином и холодным морсом, улыбались, жали руки. Две женщины — одна высокая, седовласая, с красивой гордой головой, другая хрупкая, тоненькая молодая, стояли обнявшись и не отрываясь смотрели на пластунов. И вдруг они запели «Вечерний звон». Песню подхватило несколько голосов. Старички в манишках тоже пришли сюда и принялись подпевать своими слабыми голосами. Знакомая песня на чужом языке звучала особенно: стала она будто задушевней и мягче, приобрела новые звуковые оттенки. Пели ее чехи проникновенно, с раздумьем, словно из сердца в сердце передавали трогательный рассказ, в котором были и печаль, и светлая радость, и любовь.
Гаврила Мазуренко, длиннолицый, с веселыми глазами казак, сначала было стал дирижировать — помахивал руками в такт песне, но вскоре заслушался и притих, а когда песня кончилась, вздохнул судорожно, и достав большущий носовой платок, высморкался.
— Смотри ты, — обвел он глазами товарищей, — и наши песни знают.
К центру круга пробрался совсем седой, с лицом, иссеченным глубокими морщинами, мужчина. В руках он держал массивную книгу в темном переплете с подгнившими углами и корешком. Чех обратился к сержанту, и очень скоро пластунам стало известно, что зовут его Франтишек Прохазка, он железнодорожный рабочий, а книга, которую Прохазка принес, — один из томов истории Чехии. Немцы, захватив страну, объявили гонение на все чешское, и Франтишек зарыл книги, чтобы сохранить их. Почти десять лет они пролежали в земле и только сегодня увидели солнце.
Казаки с любопытством перелистывали плотные, пахнущие плесенью страницы великолепно изданной книги, рассматривали картинки.
Прохазка объяснил, что на заглавном листе этой дорогой для всех чехов книги он хочет записать имена сержанта Гнатюка и его воинов, потому что они первые русские солдаты, которых Франтишек увидел.
— Вы принесли нам свободу, — взволнованно произнес Прохазка, — и мы хотим навсегда запомнить ваши имена.
Все чехи, стоявшие вокруг, захлопали в ладоши, закричали:
— Так, так! Наздар!
— Что ж, — приосанился сержант Гнатюк, — это можно.
Он первый, достав автоматическую ручку, запечатлел свое имя и фамилию на титульном листе истории Чехии. За ним подошел Гаврила, а потом и остальные. Франтишек тут же записал, как это будет звучать по-чешски.
— Добавь, товарищ Франтишек, что все это, — Гаврила ткнул пальцем в список, — кубанские пластуны. Пластуны — это вроде бы военное наше звание. А вообще-то мы такие же, как и ты, рабочие, хлеборобы, служащие, одним словом, трудящиеся люди. Понял? Вот мир на земле станет — приезжай к нам на Кубань, будешь дорогим гостем. — Мазуренко расчувствовался, обнял чеха. — Хорошие же люди! — обернулся он к товарищам. — Душевные люди, наши имена в свою самую дорогую книгу записали… Сержант, надо им что-то на память подарить.
— Надо, — согласился сержант, — только нет у нас ничего такого…
— А кисет, — вспомнил Гаврила.
Сержант нахмурился, но тут же тряхнул головой и решил:
— Правильно! — и вытянул из кармана кожаный кисет.
Надо сказать, что кисет, который решили казаки подарить чеху, имел свою историю.
В сорок четвертом году Кубань жила трудно, однако пластунов своих не забывала — несколько раз на фронт снаряжались большие партии посылок. И чего только в них не было: и великолепные шапки-кубанки, и папиросы, и увесистые шматки сала, и сушеные фрукты, и доброе винцо. В посылках находили казаки забавные и трогательные детские рисунки, шерстяные носки, носовые платки и кисеты, любовно вышитые умелыми руками. Какие то были дорогие подарки, сколько было за ними любви, заботы, тепла и какие сильные ответные чувства рождали они в сердцах пластунов!
Одну большую партию посылок привезли в дивизию осенью, когда части стояли в обороне на правом берегу Вислы. В штабах подарки рассортировали и отправили по сотням, а там каждое отделение получило свою долю. Отделению сержанта Гнатюка досталась одна кубанка, два килограмма сушеных груш, трехлитровая бутылка красного вина с засмоленной пробкой и нераспакованный фанерный ящик.
Отделение Гнатюка занимало маленький, накрытый сосновыми бревнами в два наката блиндаж. Одна стена его была обшита фанерой, остальные завешены мешковиной с черными латинскими буквами. Вдоль стен — нары с походными постелями: немного соломы и вещевой мешок в головах. Посредине, как в саду, круглый дощатый стол на одной, врытой в землю ноге. Над столом искусно подвешенная к потолку лампа из латунной гильзы. Днем тут сумрачно, сыро и холодно, а вечером, когда зажгут лампу да, поснимав сапоги, усядутся пластуны на нарах с ногами, даже уютно, особенно в непогоду. На дворе дождь, ветер, мрак, а в блиндаже светло, с потолка не каплет, а от лампы и от дыхания людей даже тепло.