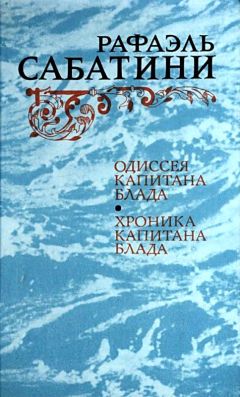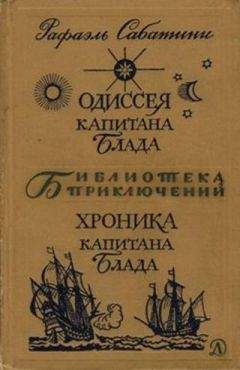Владимир Монастырев - Рассказы о пластунах
— Не мешает, и на том спасибо.
2В конце декабря пластуны получили приказ переправиться на плацдарм за Вислой. Батальон Петренко уходил ночью одним из первых. Вечером комбат собрал офицеров. Они обступили стол, на котором была разложена карта. Прямо на ней стояла семилинейная лампа в чайном блюдце — чтобы не пачкать карту. Чухлеб сидел на низком чурбаке у печи и время от времени помешивал весело горевшие дрова.
Комбат отдал приказ на марш. Когда с этим было покончено, он сделал выговор двум офицерам за то, что у казаков в их подразделениях плохо пригнано снаряжение. Распекать подчиненных майор Петренко умел. При этом он не кричал, не стучал кулаком по столу. Заложив руки за спину, комбат своими зеленоватыми, со злым прищуром глазами смотрел куда-то мимо провинившегося, будто не хотел его замечать, и ровным голосом говорил обидные слова. На этот раз особенно крепко досталось старшему лейтенанту Проничеву, замещавшему командира сотни. У его пластунов не только снаряжение оказалось подогнано плохо, но и два молодых казака не имели малых лопат и котелков.
— У них и не было, — пытался оправдаться Проничев.
— Чепуху говорите, — отчитывал его комбат. — Завтра у вас казаки карабины потеряют, вы скажете: «Так и было». Че-пу-ха! Вы дальше своего носа смотреть не хотите, а он у вас очень короткий.
Проничев вспыхнул до корней светлых курчавых волос. Он был круглолиц и курнос, болезненно переживал шуточки насчет своего носа, а тут комбат его этак при всех. У старшего лейтенанта даже слезы на глаза навернулись от обиды. Он хотел что-то сказать, но только молча шевельнул губами и еще больше вытянулся, вздернул круглый, с ямочкой подбородок.
Когда офицеры разошлись, Петренко принялся ходить из угла в угол. Чухлеб по-прежнему сидел у печки и, уставясь на догоравшие угли, не то пыхтел, не то что-то бормотал невнятно.
— Что это вы там, молитву читаете? — спросил комбат, взглянув на своего ординарца.
— С хорошим человеком беседую.
— С каким это хорошим человеком?
— У матери моей такая поговорка была: если кто имел привычку вслух свои мысли произносить, она говорила — это он, мол, с хорошим человеком беседует.
— И о чем же вы с ним беседуете?
Чухлеб оторвал взгляд от огня, помолчал немного, глядя на Петренко, и сказал:
— Зря вы, товарищ майор, Проничева обидели.
— Как это зря обидел? — комбат остановился и удивленно поднял брови.
— Он самолюбивый, застенчивый, а вы ему насчет носа. Этак человека на доброе не направишь, только озлить можно.
— Вы так думаете? — с усмешкой спросил Петренко.
Андрей Андреевич на усмешку внимания не обратил.
— Я так думаю, — подтвердил он. — Вы когда с офицерами разговариваете, все больше в карту смотрите, а мне видно, как они вас слушают. Того же Проничева взять — он ведь большую совесть имеет, каждый недостаток свой близко к сердцу принимает, болеет за дело. Вы обратите внимание, он краснеет — чисто девица…
Комбат посерьезнел. Глаза его зло прищурились.
— Вот что, товарищ Чухлеб, — начал он, глядя мимо ординарца, — вы здесь не для того, чтобы обсуждать мои действия и делать замечания: не забывайте, что я майор — командир батальона, а вы — рядовой казак, ординарец, и находимся мы с вами не на увеселительной прогулке, а в армии, на фронте…
Как только Петренко начал говорить, Андрей Андреевич встал и опустил руки по швам. Лицо его было неподвижно и, казалось, ничего не выражало, смотрел он вниз, на сапоги стоявшего против него майора. И все в нем сейчас раздражало комбата — и лобастая, с короткими седеющими волосами голова, и аккуратный, полинявший от стирки бешмет, и вот эта поза, которая выражала одновременно и солдатскую готовность и независимость. Петренко умолк, резко повернулся и отошел к столу.
— Печку я протопил, разрешите идти? — спросил Чухлеб.
— Можете идти, — не оборачиваясь, ответил комбат.
Андрей Андреевич вышел, а майор еще долго сидел у стола — изучал карту, проверял оставленную ему документацию. Несколько раз отрывался от дел, ходил по комнате, и в эти минуты в голову приходило одно и то же: с ординарцами ему явно не везет. Этого Чухлеба тоже надо будет отправить в сотню — сует нос не в свое дело и вообще держится так, что при нем чувствуешь себя как-то неловко.
Ночью пластуны выступили, и заниматься поисками нового ординарца стало некогда: началась подготовка к большому наступлению. 12 января батальон майора Петренко в числе многих других батальонов принимал участие в прорыве вражеской обороны, а потом, развивая успех, быстро и без передышек двигался вперед.
3На десятый день наступления батальон выбил противника с небольшой железнодорожной станции. Пути были заставлены разноцветными вагонами, за ними стояли островерхие домики и строгие, покрытые инеем деревья. Над землей висел реденький морозный туман, сквозь который никак не могло пробиться слабое зимнее солнце.
У выхода со станции в десяти метрах от разбитых стрелок, стояла одинокая цистерна. Неизвестно, кто и как узнал, что в ней спирт, но только скоро вокруг нее собралось десятка два казаков. Один из них забрался на верх цистерны и попытался открыть ее. То ли мороз прихватил крышку, то ли еще почему, но добраться до спирта не удалось. Какой-то отчаянный пластун крикнул:
— Отойди, братцы!
И дал по цистерне короткую очередь из автомата. Из отверстий, пробитых пулями, круто брызнули тугие струйки. Там, где они падали на землю, снег розовел, дымился и быстро таял.
Казаки выпростали котелки из вещмешков и потянулись к голубым струйкам. В это время подъехал на пароконной подводе Чухлеб. Увидев, что происходит вокруг цистерны, он сразу сообразил, как это опасно: за станцией еще шел бой, немцы контратаковали, и пьяные в батальоне были вовсе ни к чему. Андрей Андреевич спрыгнул с повозки, поправил висевший на шее автомат и крикнул, как мог, громко:
— Товарищи, отойдите от цистерны!
Его не послушались. Тогда Чухлеб снял автомат и выстрелил в воздух. Подбежал к самым струйкам и гневно крикнул:
— Назад, а то стрелять буду! Именем комбата приказываю — разойдись!
Имя комбата произвело впечатление, да и вид у Андрея Андреевича был весьма решительный. Пластуны попятились. Только отчаянный казак, стрелявший по цистерне, остался на месте. Он уже захмелел и, не сводя мутнеющих глаз с голубой струйки, твердил:
— А ты кто такой, кто такой… — и двинулся к заворожившей его струйке, словно не замечая Чухлеба. Андрей Андреевич сильно ткнул его прикладом в грудь, и пластун опрокинулся, широко разбросав руки. Потом он сел и все продолжал смотреть мимо Чухлеба. Сделал попытку встать, но тяжело плюхнулся обратно и больше не пробовал подняться.
А Чухлеб стоял у цистерны, как часовой. За его спиной бесшумные, точно остекленевшие, выгнулись голубые струи спирта. Там, где они пробили снег, образовались широкие черные круги, подернутые синеватым дымком: земля оттаивала и парила.
Вскоре на станцию пришел комбат. Он уже знал, что здесь произошло, и не стал задавать вопросов своему ординарцу. Только сказал ему:
— Решение ваше было правильное.
Приказал забить в цистерне отверстия и поставил около нее часового. Хотел было объявить благодарность Чухлебу, но передумал: и без благодарности ординарец много о себе понимает.
4Все дальше на запад уходили пластунские части. Чем ближе подходили они к Одеру, тем больше встречали сопротивление. Петренко почти все время был на ногах, спал мало, урывками, и от этого стал еще суше и прямее. К Чухлебу он не то чтобы привязался, но попривык: лихостью ординарец не отличался, однако был заботлив и предусмотрителен, привычки комбата узнал и старался оградить своего командира от бытовых неудобств и неприятностей, насколько это возможно во время наступления, конечно. Комбат любил чистоту, и в спальном мешке у него всегда была подшита свежая простыня. Он брился через день, и всегда у него под рукой оказывалась горячая вода. Все это появлялось без напоминаний, будто само собой, притом Андрей Андреевич умел не быть навязчивым, никогда не суетился и не лез на глаза без надобности.
А Чухлеб, чем короче узнавал комбата, тем больше проникался к нему уважением. Он был трудный человек, этот комбат, колючий и не всегда справедливый к людям. Но он себя не щадил, а людей берег. Сам на животе ползал по переднему краю, изучая позиции противника, ночами просиживал над картой, обдумывая свой маневр. Однажды Андрей Андреевич высказал свое мнение о майоре Петренко, а тот подслушал его.
Произошло это вот каким образом. Батальон на одну ночь оказался в резерве: так случилось, что позиции, занятые им утром, к вечеру оказались как бы в тылу — прямого соприкосновения с противником не было. Комбат успел даже вздремнуть в отбитом блиндаже, но долго спать он уже отвык и, проспав каменным сном около часа, сразу очнулся, будто его в бок толкнули. Вышел и прислушался. Дневной бой утих, а ночной еще не разгорелся, стояли те минуты непрочной тишины, какие случаются либо ранним вечером, либо перед рассветом даже во время большого наступления. Уже стемнело. На юге, где-то за лесом, полыхал пожар, а здесь, сгущая темноту, на землю время от времени падали дымно-багровые блики.