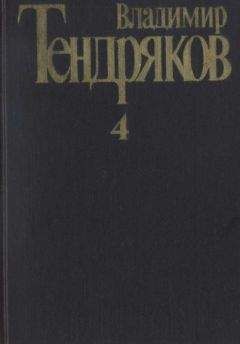Владимир Тендряков - Кончина
Интеллигентные старики в мятых шляпах, женщины в рваных солдатских шинелях, в ватниках и сапогах, женщины с детьми, женщины одинокие, лица, изрытые горем, лица, отупевшие от несчастий, девушки, страдающие бледной немочью от недоедания, украинская и белорусская речь, библейские профили евреек. Все друг другу сродни, у всех одинаковое выражение усталой зависимости перед судьбой. А их судьба — невысокий, плотно сбитый человек с решительным наклоном крупной головы, с багровым загривочком, растущим из спины.
— Кто таков?
— Извините, я доктор филологии, преподавал в Киевском университете…
— У нас этой… как ее… нет. У нас в земле и навозе ковыряются. Работка не докторская.
— Я мог бы быть вам полезен по части культурного воспитания. Потом, войдите в мое положение, здесь я оказался с больной женой, с маленьким ребенком…
— А ты кто?.. Ага, просто жена военного. Так… Муж, говоришь, пропал без вести… Так… И дети погибли… Сколько тебе лет?.. Что ж, молода, поди, вилы в руках держать сможешь… Пройдешь испытательный срок — месяц. Не покажешь себя — вот бог, вот порог.
Людей, как добрый барышник лошадей, он оценивал сразу на глазок. Лыков имеет право выбора, остальным пусть занимается собес и прочие.
Иван Слегов понимал: попади он сам в такое положение, его отмели бы в первую очередь — угасай с богом, калека! Тот, кто больше недоедал, кто сильней других иссушен страданиями, кто уже измочален жизнью — не рассчитывай на Лыкова.
Иван понимал — ни он, ни кто-либо другой не может упрекать председателя. У Лыкова колхоз без мужских рук, без крепких лошадей, без надежной помощи МТС, и такой-то колхоз должен кормить солдат в окопах, рабочих на заводах, сдавать за соседей справа, за соседей слева, за те колхозы, что захвачены сейчас немцами. Лыков, быть может, жесток, но попробуй быть добрым в войну.
Навряд ли самому Лыкову нравилось играть роль бога-кормильца: не усыхал в теле, не тощал загривочком, но глаза запали, глядел жестко, часто срывался, кричал без нужды. И вдвое против прежнего расторопен.
Руки эвакуированных женщин заменяли не только мужские руки взятых на фронт пожарцев, но даже лошадей, даже ненадежные эмтээсовские машины. На этом держится лыковская экономия.
За две машины картошки можно достать угловое железо, еще две машины — получай стекло. Ни за какие деньги не найдешь мастеров-рабочих. За деньги — нет, а за муку, за масло — пожалуйста. Рабочие ставят теплицу. В этой теплице средь зимы вызревают помидоры и огурцы. Их не нужно сдавать, они не предусмотрены планом госпоставок. Огурцы, помидоры — это теперь такая редчайшая диковина, что никто о них и не мечтает.
Выкинь их на рынок — вози деньги возами. Но что деньги — они военные, хлам бумажный. Гораздо ценнее крепкие связи. В столовой одной воинской части для высшего комсостава в буфете появляются салаты из свежих огурцов, а на складе колхоза «Власть труда» — кабель нужного сечения. Если облисполкому понадобился бы такой кабель — бились бы год, тревожили бы Москву, а достать — вряд ли… Кабель нужного сечения такая же редкость, как зеленые огурцы среди военной зимы.
Теплица рождает электрооборудованный паточный завод.
У кого есть померзший картофель, настолько померзший, что нельзя есть? У кого? Сообщите. Купим и вывезем. Промерзший картофель скупается за бесценок, иногда просто вывозится бесплатно. Из него гонится патока, а патока — товар ходкий. Лыков доволен. Лыков посмеивается: «Из дерьма — конфетка!»
Колхоз «Власть труда», и без того раньше богатый, раздобрел уже сказочно — новые фермы, теплицы, электростанции, мастерские, подсобные заводики, — вкупе миллионные доходы!
Сам же Лыков от этих миллионов богаче не стал. Правда, снова к залатанным штанам уже не вернулся, но щеголял в старой кожанке, обнов не покупал ни себе, ни жене, ни детям. Хоть и хвалился он в свое время Ивану Слегову, что живет в старом пятистенке Петра Гнилова, где углы крошатся и промерзают, но запасец, оказывается, на сберкнижке имел — на новый дом, конечно, а размахом — знай наших! И этот личный запас Евлампий Никитич в разгар войны выбросил широким жестом — на новый танк для победы, все до последней копейки. Потребовал от других — выкладывай, кто может, не жмитесь. Одна только просьба: пусть грозный танк называется «Пожарец». Знай наших!
В конце войны экипаж написал в колхоз, что их танк «Пожарец» дошел до Берлина.
Новый дом не очень-то печалил Лыкова — успеется. И Пашка Жоров, вернувшийся с фронта только чуть попорченным — разбило осколком локтевой сустав, — тоже латал свою старую крышу.
Вот и кончилась война,
И осталась я одна…
Евлампий Лыков носил в петлице пиджака боевой орден Отечественной войны первой степени.
Лыков-младший
Чистых утомился, сбавил голос, но еще выкрикивал, Иван Иванович его перебил:
— Эх, парень, Америку мне открываешь.
— Не Америку — глаза открываю, Ивам Иванович. Каждый небось в чужом-то зрачку…
— Зря стараешься — все о себе знаю. Давно, как в Страшном суде взвесил: чаша-то с добрыми делами, признаю, у меня чистенькая, словно вылизанная, а грехи были…
— А вот этого я не говорю, Иван Иванович. Я за вами и добрые дела признаю.
— Как и за собой, конечно?
Чистых уже выкричался, сидел возбужденно-помятый, с бегающими глазами, как школяр после драки, захваченный учителем.
— Я же ломовая лошадка. Неужели на мой воз только дурное клали?
— Ну, хватит нам считаться. Выскочи, погляди на машину, не пришла ли?
Чистых не особенно охотно встал, замялся у дверей:
— Иван Иванович…
— Чего еще?
— Простите, вгорячах-то чего не скажешь.
— Эх ты, человеком же стал на минуту, а теперь испугался. Не на ту сторону поклоны бьешь.
И все-таки Чистых вышел не успокоенный.
Молчал тяжко весь дом. За перегородкой что-то робко шуршало — то ли мыши возились в подпечке, то ли в соседстве, за стенкой, по-мышиному жила лыковская жена Ольга.
Молчал дом. В затянутой густыми сумерками комнатушке, прислонившись седой головой к костылям, сидел старый Иван Слегов, многотерпеливый помощник Лыкова, привыкший к непослушным ногам, к болям в спине перед дождливой погодой.
Молчит дом, и умирает за стеной хозяин Ивана, всесильный человек, почти бог.
Бог?.. Всесильный?.. Ой ли?..
Рассудить трезво: наверное, сам бы хотел, чтоб над Пашкой не протекала крыша. Хотел, да не делал. Не всемогущ.
Лыков только главный в приходе, а приход-то из Пашек. Самая большая мудрость, какую Пашка получил от дедов и прадедов: «Латай портки вовремя», и то не всегда-то ею пользовался. Новые свинарники, новые коровники, новое хозяйство и стародедовское покорное «латай» еще остается в крови. Латай и плыви, куда несет, не барахтайся. Лыков главный в приходе, его ведь тоже несло, как и Пашек. Иван Слегов попробовал барахтаться — берегись, еретик! Осадил Лыков, сам же он и не пытался: еретиком стать столь же трудно, как и святым.
Жизнь Лыкова прошла под «ура». Сейчас тишина, тишина вокруг. Иван Слегов слушает тишину, его черед пока не пришел.
Лыков использовал его. Сейчас вот пытался использовать Чистых. Кто следующий на очереди?.. Кто-то должен заменить Лыкова.
Тишина, тишина…
Легкие шажки за стеной, скрипнула дверь, бочком влез в сумеречную комнату Чистых.
— Чего в темноте-то?..
Щелкнул выключателем, свет больно хлестнул по глазам, заставил зажмуриться.
— Машина скоро будет. Леху Шаблова послал, — рванул на полусогнутых.
Иван Иванович недовольно жмурился, а Чистых, свеженький, будто успевший умыться за эти минуты, приобретший привычную ласковость и в лице и в голосе, забывший, что недавно истерически кричал на старого бухгалтера, присел снова на хромой стул.
— Идет теперь по селу гадание… Свет во всех окнах, как на праздники.
— Ладно, что уж подплывать издалека, — проворчал бухгалтер. — Пытай прямо: за кого я голос подам?
— Ежели не желательно, ежели до поры в секрете держать для вас лучше, то я — боже упаси…
— Зачем мне скрывать?
Чистых замер почти в страдальческом изгибе, словно сел на гвоздь.
— Догадываешься?
— Нет, Иван Иванович.
— Опять врешь. Мы тут кучу всякой всячины наговорили, а о нем не вспомним. Почему бы это?..
— Не о младшем ли речь?.. — выдавил Чистых.
— Да.
— Иван Иваныч!
— Что? Не нравится?
— Себя хороните, Иван Иваныч! Вот уж кто с вами церемониться не будет, вот уж кто в вашу сторону ухом не поведет…
— Опять — ухом!.. Пусть пень вместо головы, лишь бы на нем уши большие росли.
— Себя хороните, Иван Иваныч! Как этого не понять!
— Может быть, может быть, хороню…
Чистых кривовато восседал на стуле, глядя страдальчески.