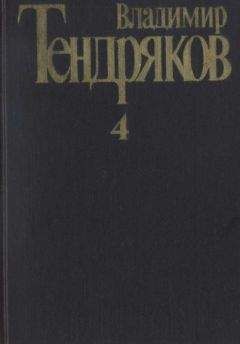Владимир Тендряков - Кончина
— Эй ты! Проваливай! Не маячь!
— Ловок! Им одним занимайся, а мы в стороне!
— Гнать его в шею!
Не знают эти крикуны, что через несколько минут будут так же рваться в эти двери во второй раз. Каждому из них Чистых кисло бросит:
— Не можем.
Лыковский заместитель Чистых и на самом деле — не может. Если б ему в голову пришла дикая мысль согласиться с резолюцией Лькова, не обратить внимания — «по возможности», то заявление, сделав круг, попало бы на председательский стол. Тогда, как знать, Лыков, может, помог бы, но Чистых наверняка пришлось бы распрощаться с должностью. Такого на практике не случалось.
Для всех мил не будешь… Для обычных людей это верно. Как ни старайся, как ни жертвуй собой, а для кого-то все равно окажешься не милым, не красивым, с камушком вместо сердца. Для обычных, но не для Евлампия Лыкова. Оказывается, это «немилое» обличье, черствость, скупость можно, как грязную шапку, повесить на другого. Тот, другой, будет безобразен, а ты — пригож. Правда, надо быть очень влиятельным, чтобы отыскать такого, кто не тяготясь согласился бы повесить на себя то, чем брезгуешь сам.
Чистых хорошо платили и трудоднями и узаконенным почетом — введен в члены правления, ни от кого, кроме как от Лыкова, не зависим, кой-кто из простаков, особенно старухи, доверчиво дивились: «Эвон, чудеса в решете. Видать, хваток, коль так скоро вошел в силушку. Ну-тка самому Евлампию перечит, с самим не считается».
Поначалу должность Чистых мыслилась — отваживай просителей со стороны. Но просителями-то были и свой брат, законные колхозники «Власти труда». Перед ними председателю еще больше хотелось выглядеть добрым и щедрым. Евлампий Лыков стал посылать к новому заму и своих, с теми же размашисто доброжелательными резолюциями на заявлениях.
— Нельзя! Не можем!
К Чистых копилась крутая ненависть — мало кто был им не обижен. Все ворчали: «Собака в кресле — не укусит, не облает, и тронуть не смей».
Но в праздник, особо по вечерам, Чистых уже выходил из дому с опаской — наткнешься еще на пьяного, а пьяному море по колено. Не раз по ночам кто-то разбивал камнями окна его дома.
* * *
И сейчас Чистых кричал на Ивана Ивановича:
— Что я для Евлампия Никитича по сравнению с вами? Моль! Уж кто-кто мог указать Евлампию Никитичу, то вы только. Много ли указывали? Часто ли за руку хватали? Да, не было этого! Чем вам передо мной гордиться? Чем, спрашиваю?!
Иван Иванович слушал, не перебивал: пожалуй, даже и хотел бы, да не возразишь — прав.
Впрочем, один раз он пытался повернуть Лыкова, Один раз всего…
Пашка Жоров и другие
Стул бухгалтера — что пожарная вышка, с него все видно, особо если у тебя хорошее зрение. Евлампий Лыков крутился по хозяйству, ужом влезал во все щели, но он-то по земле ходил, потому его, земного, удивляло, что еще рот не успевает открыть, а Иван Слегов уже говорит за него нужное слово.
«Сначала было слово, слово было бог…» — не случайно сейчас в разговоре с Чистых вырвалось у старого бухгалтера. Когда-то эта почтенно древняя фраза шла через его жизнь немым припевом.
Он уже не помнит, что тогда его, безногого, занесло на строительство большого коровника, который и по сей день считается основной молочной фермой колхоза.
У околицы, на окраине унылого пустыря, где росли неопрятные ольховые кусты и жирный конский щавель, солнечно-желтый сруб запустил в голубое небо солнечные стропила. С одного конца по этим стропилам уже начали класть матовые листы шифера.
«Сначала было слово…» Год назад он, Иван Слегов, взялся за костыли, проковылял к шкафу, достал свои бухгалтерские книги и с помощью несложной арифметики, цифра к цифре, доказал Пийко Лыкову — нужно! Все в колхозе начинается с его слова.
Пийко Лыков когда-то перебил хребет и, должно, до сих пор свято верит — Ванька Слегов его раб по гроб жизни. Да, перебил, да, обезножил, привязал к стулу, от Пийко ни на шаг, но кто чей раб? Чье слово — бог?..
Рабочие ползали по стропилам, одевали их в шифер, новый материал, до сей поры неведомый деревне.
А напротив, оседлав крышу своей избенки, клевал молотком Пашка Жоров, на сгнившие дранки нашивал латки. Увидев подкостылявшего бухгалтера, он сполз пониже, выплюнул в ладонь гвозди.
— Наше вам почтеньице… Объясни ты мне, друг сердешный, по каким таким правам — мне жить под латанной крышей, а комолой Пеструхе под медной?
Пашка Жоров — лицо спеченное с кулачок, в рыжей, редкой щетине уже изрядная седина — балаболка в компании, крикун на собраниях, выдает на голос все, что кем-то сказано в полшепота, — своего не родит. И уж, конечно, этот Пашка вместе со всеми когда-то отвернулся от Ивана Слегова: «Что ты нам — в упор не видим».
Иван нехотя ответил ему:
— Ежели на корову сверху не будет капать, то в общий подойник погуще капнет. Не хитро, сам бы мог догадаться.
— Эхе-хе! Догадайся тут, кто из нас хозяин-барин? Сдается мне — корова барыня.
Пашка поскреб затылок, покряхтел и, выставив тощий зад, полез вверх стучать молотком.
Только это и сказал: «Корова — барыня». И ответа не стал ждать, повернулся костлявым задом, обтянутым худыми портками.
И стоял жаркий день, и тени, съежившиеся, скупенькие, лежали под стенами изб, в небе солнечные стропила, и в синеве, чуть ли не под обжигающим солнышком, ходили кругами два ястреба, и по крыше на четвереньках полз Пашка Жоров, по крыше, иссушенной зноем, по шелухе покоробившихся дранок.
Вдруг все перевернулось в душе Ивана, стало жаль Пашку, впервые за много лет — зад тощий, портки спадают…
И себя неожиданно жаль….
Слово — бог. Твое слово! А портки-то у тебя, бог, не лучше Пашкиных. Ни себе, ни Пашке…
Иван костылил к колхозной конторе по солнцепеку.
Поросята в изнеможении прятались в ненадежную тень под плетни, в небе важно, по-хозяйски, гуляли два ястреба. День как день, как вчера, как позавчера. И завтра будет, похоже, такой же.
Ни себе, ни Пашке. Собакой на сене и дальше жить?..
Шпарит солнце, затянулось вёдро. Да, завтра день такой же.
День-то такой, но он, Иван, войдет в него новым.
Ни себе, ни Пашке. Корова — барыня…
Иван торопливо костылял к конторе.
Отодвинул в сторону все будничные бумаги, достал из шкафа приходо-расходные книги прошлых лет, уселся… Сидел до поздней ночи, подсчитывал, аккуратненько выписывал на листке цифры.
В позапрошлом году был получен такой-то доход. Куда он ушел?.. Колхоз съел. В прошлом — доход больше, колхоз его снова съел, почти целиком. В этом году… Колхоз пожирает, колхоз перемалывает, крутится жернов. Намололи достаточно, не пора ли Пашке Жорову сыпануть щедрей, нынче не прошлые «пиковые времена». Что скажешь на это, Евлампий Никитич? Цифры говорят. А цифры — вещь острая, на нее, как на рогатину, не лезь, наколешься!
Поздней ночью за ним пришла встревоженная жена.
— Иван. Я с ума схожу, а он, на-ко — дня не хватило, сидит себе и каракули выводит.
Оторвался от бумаг, взглянул на жену ясными глазами. Взглянул, и сердце сжалось, пронзительно почувствовал, как далеко уплыли они оба от молодости, от тех лет, когда он, подбоченившись, покрикивал на лошадей: «Э-эх! Серы кролики!»
Она стояла перед ним прямая, высохшая, в углах поблекших губ глубокие складки, только брови по-прежнему густы, на плоской груди сложены натруженные руки, платок стянут под острым подбородком, в каждой черточке, в каждой морщинке — тревога и боль за него, уже привычные, уже не ранящие.
— Марусь… — выдавил с сипотцой, с горячим придыханием. — Ты думаешь, у нас с тобой все прошло, все кончилось?.. Марусь, в жизни, как в хороводе, рано ли поздно на прежнее ступаешь. Вот и я наново на старое ступил, только теперь тверже. Не молодой щенок, который на луну тявкал — мол, допрыгну! Не-ет! Видишь это? — хлопнул широкой ладонью по густо исписанному листку.
— Чего еще? — голос ее был поникший от испуга.
— Ты гляди, любуйся! Тут мелочь — крючки, закорючки чернильные. Не-ет, тут разрыв-трава, что в сказках пишут. От такого вот реки вспять текут, моря из берегов выходят, ночь в день обращается…
— Сказочник ты у меня. Не обломали еще Сивку крутые горки… Идем домой, голубь.
— Э-эх, Марусь! Как тебе втолковать? Жмемся, копим, пухнем, но должно же это в конце концов прорваться. Я первую прореху сделаю! Хлынет! Хлебай, люди, досыта!
— Идем домой, Иванушка…
— Скушная ты стала, Марусь.
— Не скушная, Иван, толченая да ученая, а тебе наука все не впрок. Идем домой, золотко, за полночь, поди.
— Э-эх! — Иван с досадой стал прибирать на столе бумаги, исписанный листок бережно положил в карман. — И вода плотины рвет. А тут годами текло, так не прорваться!.. Ничего ты понимать не хочешь!
— Дай-кось я тебе помогу встать… Вот и ладненько, утро вечера мудренее. Завтра кому поумней расскажешь, я-то бестолковая.