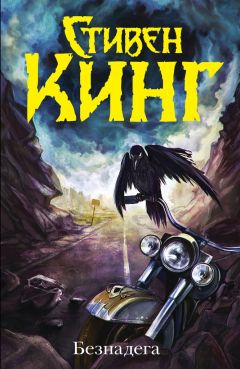Анатолий Приставкин - Городок
Достал Шохов московского гостинца в виде печенья и плиточного шоколада «Аленка» и конечно же бутылку московской водки. Но когда сели за стол и налили вина, не смог он пить, не пошло. Сидел, как в полусне, глядя на своих, как они веселятся, и воспринимал будто со стороны. Напряжение спало, было у него на душе мирно, тихо и легко. Так легко, как давно уже не бывало.
Спать положили Шохова в сенцах, под ситцевый полог, он тут всегда спал. И все было как прежде, ватное теплое одеяло и подушки в ситцевых наволочках, большие, пуховые, очень удобные. Лег он и утонул в родных полузабытых снах. Никаких мыслей не было у него. Никаких воспоминаний, сожалений. Одно непреходящее, благостное, счастливое чувство родного дома.
Утром он проснулся позже всех. Вспомнил, как сквозь сон на зорьке поднялся Афанасий, завел трактор и уехал, ему к шести на работу. Чуть позже Михаил поднялся, затрещал своим мотоциклом и тоже уехал. Мать вышла к корове, сама с собой о чем-то разговаривая, вернулась, и стало вновь тихо. Он вспомнил, что он дома, а значит, все хорошо, и снова уснул. С таким же радостным чувством встал, умылся, его уже ждали и без него завтракать не садились.
Пока собирали на стол, он вышел во двор, крытый заодно с домом, прошелся по нему, распугивая кур и осматриваясь с интересом: на ларе, привязанный за лапку, сидел дикий селезень и блестящим черным глазком смотрел на Шохова. Дремала собака, ее, кажется, звали Лапкой. Она вроде бы и приняла нового человека как своего и уже не лаяла, но зарычала, когда он попытался к ней подойти.
Шохов откинул щеколду, вышел на улицу. Был ветреный день, облака, холодные, темные, быстро бежали по небу, и тени от облаков тоже были холодные. Но все равно было тихо и хорошо. Шохов не успел вчера разглядеть деревни, но и сейчас почему-то не хотелось этого делать. Хотелось просто посидеть, ни о чем не думая. Он и присел на большом поваленном дереве. И опять удивился, как тихо в эту пору в деревне.
Звякнув щеколдой, вышел отец и сказал, что ждут завтракать. А сам присел рядом с сыном. Шохов теперь и при свете смог разглядеть, что отец и вправду постарел, и снова сравнение с какой-то белой птицей пришло на ум.
— Сколько домов-то осталось? — спросил он, почти без любопытства, и кивнул в сторону улицы.
— Так, девять,— отвечал отец.— А было-то, помнишь? Было-то шестьдесят! Но уж при тебе стали уезжать. И сейчас уезжают.
Оба помолчали. И отец опять сказал:
— В городе лучше жить. Те, у кого много детишек, еще не едут, а остальные...
Солнце вдруг выскочило из бегущего облака и горячо пальнуло в лицо. Шохов прищурился и вздохнул, до того было приятно.
— А не жалеют? — спросил он, не открывая глаз.
— Чего жалеть-то,— отозвался отец.— Это раньше — землю на палец перепашешь чужую, так судиться будут. Голову могут оторвать запросто. А сейчас земля никому не нужна. Ее студенты приезжают обрабатывать.
— Неужто студенты?
— Ага. И заключенные. Да мы тоже поближе к городу хотим перебраться. Это бросить, а там построить... Мишка говорит.
— А куда он поехал, Михаил-то?
— За мясом. Гость в доме, вот и поехал. В соседний район небось.
— Он работает?
— Кто, Мишка-то? По договорам, лес пилит для колхоза «Коммунар». В соседнем районе...
— А здесь чего же?
— Да поссорился с начальством. На свадьбу ехал, взял лошадь, а начальство рассердилось. А он и ушел. И Алексей тоже не хочет в совхозе: лесником работает. Его участок прям от дома начинается. А ты чего все носишься, не уймешься никак?
— Да вроде унялся, бать.
— Думаешь, унялся? — спросил отец.— А ведь с нами жить не станешь?
Шохов не отвечал.
— В городе, ясно, веселей. А я — так телевизор смотрю. Ну, пойдем, что ли, в избу, а то остынет.
На завтрак подали суп, молоко, рисовую кашу и сушеную щуку. Хлеб, свой, домашний, нарезали крупными ломтями, ах как он был вкусен, этот, из русской печи, материнский хлеб. Шохов ел, не торопился, все поглядывал на мать, которая не садилась, а все бегала, бегала туда и обратно, а на нее еще и покрикивали. А отцу в миску с молоком насыпали толокна овсяного, похожего на желтую муку. Этого толокна, Шохов его еще вчера в сенцах разглядел, стоял целый ящик. Афоня, мол, достал специально для отца.
После завтрака Алексей ушел в лес, на свой участок, а Шохов решил прогуляться к речке, куда ходил купаться в детстве, заодно посмотреть, есть ли в лесу грибы. Братья в голос убеждали, что грибов в этом году навалом, да их в доме никто не собирает и не ест.
Проходя мимо окраинного, брошенного дома, Шохов не выдержал, задержался. Он помнил, что в этом доме жил приятель его Петька, вместе в школу ходили до седьмого класса. Потом Петька уехал учиться в ПТУ, после смерти матери, а его отец, бригадир, еще крепкий мужик, второй раз женился, и хозяйство его и дом были чуть ли не лучшими в деревне.
По стропилине, положенной наискось, Шохов поднялся в бывшие некогда сенцы и удивился, что тут еще все хоть и брошено, но цело: и ткацкий стан, и прялка тоже деревянная, и посуда, и туески из бересты, и долбленое корыто. Вспомнилось: «Все на свете крыто корытом!» А вот уж и нет. На вбитых в стенку гвоздях так и висели всяческие замочки, гвоздики в бересте и даже лапти на веревочке... А крыши-то не было!
Если бы Шохов не помнил, то и сейчас можно было понять, что здесь жил настоящий мужик, хозяйственный и бережливый. Что с ним стало? Отчего уехал и бросил все?
А ведь когда-то наживали, сохраняли, каждую мелочь берегли. Сумочка на гвозде, а в ней сено лежит. А может, не сено, а травка лечебная? Деревянная миска с одного боку протерлась и залатана листом железа, вот ведь как ценили! А сейчас, никому не нужная, валяется... Как же можно все это бросать?
Шохов в дом прошел, и опять же все цело: печка, полки, шкафчики, лавки. И ухват, который у них звали возмилкой, около печки в истопке. Добротная, основательная часть старого крестьянского уклада, от которой торопились уйти, отбросить, забыть, отторгнуть навсегда, как не свое... А чье же тогда?
На чердаке в надызбице среди прялок деревянных (нечаянно задел за колесо — и оно закрутилось, садись и пряди) Шохов углядел палочку из ореха, засунутую за тесовину. Палочка от верха донизу была украшена дивной резьбой: тут и клеточки, и спиральки, и шашечки, и ободки разной толщины! Так и Шохов когда-то в детстве умел, да забыл ведь, а сейчас залюбовался зачарованный. Ишь как разделали! И подумалось, может, это Петькина палочка-то была. Припрятал, чтобы не затерялась, да забыл, а она вон когда нашлась... Дом бы развалили на дрова и не заметили бы!
Шохов спустился по стропиле обратно в лопухи и крапиву и живо, будто его припекло, выскочил вон. Даже на речку раздумал идти и в лес, настолько расстроился. Прошел из конца в конец улицу: четыре дома с одной да пять с другой. Еще один заколочен. А в тех, что живут, в окошках желтые огурцы видать, оставленные на семена, да дымок из труб кое-где. Под окошками береста постелена, чтобы сруб от дождя не гнил. Такая же береста и на том срубе, что брошен, а зачем она нужна?
Вернулся Шохов домой и завалился под полог, и пролежал до вечера.
Пообжился Шохов и совсем притих. Словно не он недавно воевал по поводу всяческих строительных дел и громкие планы строил, был решителен и целенаправлен. А тут, на второй день, помягчал и вовсе стал задумчив и малословен, только ходил да прислушивался, а к чему, не разобрать. То ли к дому своему, к матери или отцу, к деревне, или к лесу, или к речке, куда потом конечно же сбегал и даже вечернюю зорьку провел за рыбной ловлей.
Ни братья, Алексей с Михаилом, ни Афоня, ни даже Володя не одобряли такого рыболовства. Они промышляли ночью с фонарем и трезубцем. И никого они не боялись.
Однажды Шохов спал и не слышал, как приехали участковый с егерем на мотоцикле, стали расспрашивать мать о том, где Михаил и почему он не работает. Мать передала все это с юмором, как валяла ваньку, прикидывалась непонимающей и повторяла: «А мне откуда знать? Не слышала, не ведаю». А Михаил взорвался: «Чего они хотят, чтобы я их напоил задарма? А я прокурору напишу. Такую бодягу разукрашу, что он (участковый, значит) забудет, где работает. Какое он право имеет в мое жилище входить, во-первых? Я что, законов не знаю? Тут один такой уже качал права, а я говорю... Смотри, говорю, как бы не сыграл раньше меня! И — тово, повесился от неудачной женитьбы!»
Шохов подивился таким речам, но промолчал. Характер-то шоховский надо понимать. Но одно дело на стройке воевать, там вроде на виду общественности. А вот что в деревне перестали бояться, мол, на бумажку запишу, это для него было ново. Раньше-то — поговори только. Достает незнакомый человек бумажку, карандаш: «Как фамилья? Сейчас запишу!» — и все шарахались от него.
Мишка вообще ухарь, озорник. Но руки-то у него шоховские, золотые. Ему бы на стройке, как и Григорию, цены бы не было. Влезает везде, где можно влезть. Все, что в доме нового, от телевизора до лампы дневного света, до транзистора или баллонного газа, — он придумал, привез и поставил. Хвалится: заработал на лесе две тысячи, отдохну и снова поеду по договору лес пилить. Могу и цветной телевизор купить, пусть батя смотрит, ему надо!