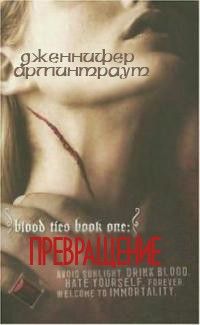Вениамин Каверин - Перед зеркалом
Лавров вынул носовой платок и мял, крутил его в руках, как провинившийся мальчик.
— Все это кончилось и, вообще, ерунда, — пробормотал он с отчаяньем. — Костя скоро придет. Все будет хорошо. Ну, пожалуйста, поверьте, что все будет хорошо! Вы же умница. Как у вас со здоровьем? Анна Игнатьевна почему-то думает, что вы больны.
— Я здорова. Впрочем, сейчас у меня начинается головная боль, и нужно пройтись, чтобы она не разыгралась.
Лавров надел пальто, они вышли вместе. Он еще говорил о чем-то на лестнице, в коридоре. Она не слушала. У подъезда гостиницы они простились, и Лиза пошла направо, к кремлю.
Замерзшая ленточка Казанки тускло блестела. На крыше какого-то двухэтажного дома зеленый купол был окружен пошлыми железными цветами, и Лиза подумала, что таких домов почему-то много в Казани. Но белая высокая стена кремля, доходившая до башни, а потом продолжавшаяся с темными стрелами бойниц, была прекрасна — и Лиза немного успокоилась, глядя на ее сияющую под солнцем, пустынную белизну. Налево были пять голубых куполов какой-то церкви, а направо все взгорья и взгорья, много рыжего и красного — крыши с торчащими побеленными трубами, из которых поднимался серовато-прозрачный дым. И всюду шла жизнь: женщина развешивала белье на дворе, пилили дрова, где-то крыли тесом сараи. Ничего не случилось. Земля была огромная, надежная, занятая жизнью и собой, прекрасная и простая.
Она вернулась в номера, расплатилась. Портье сказал ей, что поезд в Самару отправляется через Саранск в четыре пятнадцать. Она наскоро написала Косте — и не стала перечитывать свое холодное, мертвое письмо. В нем было все по-другому, она не знала, с чего начать, чем кончить, — точно что-то выпало из ее рук и разбилось.
На вокзале было грязно, шумно. Городовой кричал на какого-то мужика, сидевшего на туго набитых мешках.
Строился маршевый батальон, ладили помосты к товарным вагонам. Бабы плакали. Татарин, стоя на коленях, молился, шептал, кланялся в уголке заплеванного зала...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Прошлое отлетало стремительно, бесповоротно. Жизнь, оторвавшаяся от обихода, ворвалась в маленькую квартиру на Госпитальной, все перекроив по-своему, заставив Карновского бросить на время магистерские экзамены, потому что шли бои с «забулачниками», объявившими, что столица «Урало-Волжских штатов» находится в одном из городских районов, за маленьким грязным протоком Булак. В июне 1918 года он уехал с матерью и девочками в Москву: чехословацкий корпус поднимался вверх по Волге и был уже недалеко от Казани.
...Он вернулся зимой в промерзший город, в обокраденную квартиру на Госпитальной, в университет, погруженный в непроглядную тьму. Младший брат был мобилизован белыми и погиб; об этом Карновский узнал только через несколько лет. Надо было с чего-то начинать. Надо было что-то продолжать. Он разыскал профессора Маврина и доказал ему, что «красная арапия», как старик называл большевиков, не возражает против изучения теории функций действительного переменного и всей высшей математики в целом.
Так опять начался университет, наука и новый отсчет времени, который был еще требовательней, чем прежде.
После магистерских экзаменов Константину Павловичу предложили читать специальный курс в университете. Он согласился, но почти все свободное время отдавал организации Политехнического института.
То была пора, когда после освобождения Поволжья в городе постепенно восстанавливалась прежняя жизнь. В ней была черта, сразу же захватившая его, — возможность невероятного, как он выразился в разговоре с Лавровым. Эта возможность требовала размаха, тоже невероятного. Практически представить его было почти невозможно, но «логически» — доказывал он скептически улыбавшемуся, изголодавшемуся Лаврову — «вполне обозримо».
Политехнический институт создавался на базе ремесленного училища. Но никакого ремесленного училища давно уже не было и в помине: учащиеся были мобилизованы белыми или разбежались, в мастерских стояли два поломанных токарных станка, электромотор времен Яблочкова и разобранный двигатель внутреннего сгорания.
Осенью девятнадцатого Карновского назначили деканом рабфака, и он снова согласился, подумав, что, в сущности, он сам был первым рабфаковцем, когда работал на заводе братьев Крестовниковых и занимался ночами. Он и теперь прежде всего пошел на завод — набирать учащихся и просить, чтобы рабочие помогли ему оборудовать кабинет учебных пособий. Потом, спустя полгода, когда учащиеся вдруг нахлынули разом, дело стало за преподавателями, и тут пригодилась репутация Константина Павловича, как вежливого, вполне интеллигентного молодого человека, у которого было много знакомств среди богатых русских и татарских семейств. Он нашел преподавателей и среди них одного крупного инженера, который предсказывал советской власти скорую и неизбежную гибель.
Сложнее было с программой для рабфаков и технических вузов, о которой шли бесконечные споры. Карновский принял участие в обсуждении и с самого начала занял острую позицию. Он испытал сперва один, потом другой метод, горячо рекомендованный в сборнике «Новое дело». Оба растаяли, как пар в нетопленной аудитории, битком набитой людьми в солдатских шинелях, которые занимались, пользуясь одной книгой на троих и грея дыханьем замерзшие пальцы. Нечего было и надеяться на то, что им окажется доступной строгая, сложившаяся в двадцатом веке система математических знаний. Для них путь в математику шел через технику. Очевидно, где-то здесь и надо было искать новые методы преподавания.
Возможно, что, если бы он не заходил к старику Маврину, помогая ему приводить в порядок библиотеку и полусожженный архив, ему не пришла бы в голову эта, в сущности, простая мысль. Архив и библиотека были уникальными, в них встречались книги не только начала девятнадцатого века, когда Казань была одним из научных центров Европы, но и восемнадцатого.
Карновский, который всегда интересовался историей науки, начал с Чебышева и, двигаясь назад, к восемнадцатому веку, прочел два мемуара Эйлера. Он искал возможность простого, наглядного подхода к высшей математике и проследил ее развитие, останавливаясь на тех этапах, которые естественно связывали математическое и техническое мышление. Гениальный Чебышев подсказал многое. Еще неясные соображения горячо поддержал Лавров, любивший повторять, что «только простое может бросить свет на сложное».
Конечно, это было отступление, но ведь отступал же — как сказал тот же Лавров — и Кутузов.
Новая методика, в основу которой были положены старые «доабстрактные» способы преподавания, была разработана до мелочей, и, хотя статья Карновского вызвала новые горячие споры, он, не отвечая, принялся за дело. Время показало, что он был прав — в конечном счете именно его методика легла в основу преподавания математики на рабфаках и в технических вузах.
Прежде «отсчет времени» касался только внутренней жизни Карновского. Профессор Маврин считал его самым способным из своих учеников, и он был нужен кафедре, университету. Теперь оказалось, что он нужен сотням людей, которые писали с грубыми ошибками и в лучшем случае знали таблицу умножения. Он стал центром острых интересов, поражавших его своей новизной. Его аналитический склад ума, «пунктуализм», над которым подшучивал Лавров, неожиданно оказались необыкновенно важными не только для него, но и для тех, кто с разбегу кинулся к нему с делом. От него не просили, а требовали знаний.
2Он получил несколько писем от Лизы сразу же после ее отъезда из Казани и вернул их, не распечатав. Он ничего больше не хотел знать о ней — теперь пришла его очередь возвращать ей нераспечатанные письма. Она бросила его — и прекрасно! Правда, это случилось с ним впервые в жизни, «но, может быть, — думал он с холодностью, которая была (он знал это) утешительной, притворной, — случится еще не раз». Но не с холодностью, а с бешенством он спрашивал себя: что заставило его в разгаре неотложных дел броситься в Петроград? Оскорбленное самолюбие? Да, может быть. Ведь Лиза старалась доказать, что она счастлива с Дмитрием, а он, Карновский, может поступить, как ему вздумается — ехать или оставаться в своей грязной Казани.
Но если так, что же произошло в Петрограде? Что изменилось в тот день, в тот час, когда он увидел Лизу? Произошло то, что он едва узнал ее. Так это была она — уверенная красавица, остро и весело сознающая силу своего обаяния? Так это она держалась так свободно, так смело у Гориных, в богатом профессорском петербургском доме? Незаметный казанский студент в отглаженной, но сильно потертой форме сидел в гостиной, не вмешиваясь в тонкий разговор о «хроматической гамме света», в котором он ничего не понимал и, разумеется, смеясь, сейчас же сознался в этом.