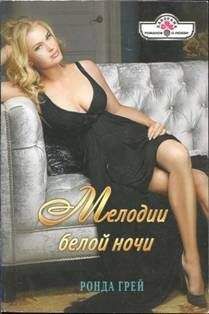Александр Иванов - Не жди, когда уснут боги
— Да-а… — протянул Нургазы, наш четвертый сосед по купе, и было не понять, то ли он согласен с Иваном Степановичем, то ли еще раздумывает, согласиться или нет. — А вы давно шоферите? — помолчав, спросил он.
Иван Степанович ответил не сразу. Его что-то влекло, притягивало, уводило в заоконные просторы, он пытался найти, разглядеть что-то ведомое ему одному, и все больше напрягался, томимый щемящим ожиданием.
— У меня почти вся биография на колесах, — сказал он, наконец. — Как подрос, до руля достал, так и поехал. Вот только в войну…
— Что, не хватало машин? В пехоту пошли?
— Хватало. Слабенькие, правда, машины были, ну да ничего, в те времена сходили за милую душу. Не повезло мне, друзья, не повезло. На второй месяц в мою полуторку снаряд угодил. Сам еле выкарабкался. Ну, а потом — как все, кто уцелел, но от своих отстал, — в партизаны подался.
Мы молчали; тишина заполнялась мерным настойчивым стуком колес; мимо плыли и плыли живые полотна величайшего из художников — природы. Лес густел, становился глуше, неприступнее и все ближе подходил к железнодорожному полотну.
— Вот здесь, конечно же, здесь! — взволнованно произнес Иван Степанович, и его указательный палец уперся в толстое мутноватое стекло.
Показалась небольшая речушка, лениво несущая свои воды меж илистых, поросших камышом берегов. Обычная для этих мест речушка, каких десятки попадались на нашем пути. Но едва Иван Степанович воскликнул, едва в нем торкнулось воспоминанье, как торкается ребенок в матери, просясь наружу, на свет, мы изо всех сил стали всматриваться в окрестное пространство, стесненное могучим лесом.
— Крепенько тогда поработали, что и говорить, — продолжал, уже более спокойно, Иван Степанович. — Славное было зрелище, ох, и славное, настоящий фейерверк. — Он опять замолк, представляя, должно быть, то, что тогда случилось.
Торопить его не хотелось. Столько книг и фильмов о войне принято сердцем, что оно уже избегает горячки, воспринимает все терпеливо, в плотной неразделимости с теми бедами и победами, которые выпали на долю страны.
…От него требовалось пустить под откос эшелон и вывести из строя железную дорогу. (Ту самую, по которой мы теперь проезжали!). Подполз вместе с товарищами. Выслал фланговую разведку. Вскоре мигают фонариками: порядок. Подождали, пока пройдет дрезина с балластом. Потом бросок к рельсам.
Заложили шестнадцатикилограммовую рапеду. Приготовились бежать, зная, что после взрыва немцы звереют, окружают и прочесывают лес. Но эшелон прошел, а взрыва — нет, нет, нет! В чем дело? По рации приказали: отступать. Но как быть с рапедой? Так и оставить ее?.. Тол они вытапливали из брошенных снарядов, был он на вес золота. «Пойду, проверю», — решил он. Его не пускали. Мина могла сработать в любой момент. Да и немцы забеспокоились: по железнодорожному полотну то и дело, как щупальца, шарили лучи прожектора.
Предупредив товарищей, чтобы они отходили подальше, он направился к рельсам. Подполз. И облегченно вздохнул. Проводок, ведущий к взрывателю, упал на шпалы. Колеса промчавшегося поезда даже не коснулись его. Собрался было снимать мину, как справа, нарастая, донесся грохот состава. «Вне расписания идет. Особо важный», — мелькнула мысль. Быстро набросил проводок на рельсы и скатился с насыпи. Едва достиг леса, раздался мощный взрыв. За ним — еще и еще! Рвались цистерны с горючим, вагоны с боеприпасами, они наскакивай друг на друга, образуя огненную лестницу. В лесу стало светло, хоть иголки ищи. Настоящий фейерверк!.. Эшелон полностью сгорел. Шпалы тоже. Рельсы покоробились. На неделю железнодорожная связь врага была прервана.
— Да-а, — протянул Нургазы, качнув головой. — Хорошо сработали, понимаешь ли. Вам бы после войны взрывником пойти. Или надоело?
— Так у меня ж было дело, свое кровное дело — машину водить. Куда мне от него? Никуда.
— А я вот взрывник, — сказал Нургазы. — Порой настолько осточертеет, что плюнул бы да ушел.
— Где взрывником-то?
— На Токтогулке. О Серебрякове слышали? Вот у него.
Я знал, что на Токтогулке жаркое время: завершается строительство отводного туннеля. Газета, в которой я работал, писала, что бригада проходчиков Серебрякова готовится к рекордному рывку. Спрашиваю Нургазы:
— А как же рекордная проходка?
Он смотрит на меня, коренастый, плотный, глаза у него коричневые, слегка выцветшие — от долгого пребывания под землей, с маленькими белыми точечками — от частых вспышек при взрывах.
— Дней через десять начнут, — тихо говорит он. Чувствую, тема для него не из приятных. Но коль замахнулся…
— Нам еще ехать и ехать. Значит, без тебя они начнут?
— Без меня.
— Обидно, наверное? Ведь не каждый день такое событие.
— Событие, событие! — неожиданно взрывается он. — Да на моей памяти, знаешь, сколько их, этих событий? С ума сойти можно. Как отпуск, так обязательно что-нибудь намечается. И планы мои — коту под хвост. Ну, раз, понимаешь ли, ну, два… Нельзя же бесконечно! Мне тоже, понимаешь ли, отпуск по-человечески хочется провести.
— Эх, Нургазы, — Иван Степанович отодвинулся от окна, спустился с полки. — Разве отдохнешь по-человечески, когда на душе покоя нет?
— Почему нет? — возразил Нургазы, хотя уже не столь пылко. — Должник я, что ли? О моей работе никто худого слова не скажет.
— А мы все друг перед дружкой должники, — сказал Иван Степанович. — Но долг такой в радость, от него силы прибавляются. Если же отступил, схимичил, не сделал, как совесть велела, тот же долг становится тяжестью, замучает, пока не исполнишь.
— Верно, говорите, — поддержал его Толеген. — Как бы я, например, уехал во время посевной? Представить себе не могу.
— Пойду, покурю, — сказал Нургазы.
Следом за ним вышел и Толеген.
Мы слышали, как в соседнем купе открылась и закрылась дверь.
— Опять он к своей землячке, — сказал Иван Степанович, имея в виду Толегена. — Что-то тут неладное кроется.
Я вспомнил, как на одной из остановок, в Саратове, кажется, ко мне подбежал запыхавшийся Толеген и стал расспрашивать, куда исчезла его землячка Гуля. «С Нургазы ушла», — ничего не подозревая, ответил я. «В какую сторону? Когда?» — еще пуще заволновался он. «Успокойся, не заблудятся. У Нургазы чутье на улицы». — «Если б только на улицы!» — И Толеген помчался разыскивать их в незнакомом городе, хотя через час была назначена отправка, и они все равно пришли бы к поезду.
С тех пор он всячески мешает их встречам, не допускает, чтобы они оставались наедине. Выглядело это нелепо. Единственно, что слегка оправдывало его в наших глазах, — возможные родственные связи и обычная в таких случаях просьба родителей присмотреть за дочкой.
Раздался какой-то шум. Через стену доносились голоса, все громче, все отчетливее. Хорошие разговоры на повышенных тонах не ведутся. Мы разом поднялись.
В соседнем купе Гуля наступала на ошеломленного Толегена.
— Чего ты пристал ко мне, шага не даешь ступить! Бай-манап, вот ты кто! Дома я из-за тебя, как в клетке, думала, хоть сюда вырвусь, нет, потащился за мной, следишь — выслеживаешь… — Толеген сидел перед ней, стоящей, овладел собой, заусмехался с чувством непонятного превосходства. — Сколько говорила: уйди лучше, иначе я такое сделаю, что… — И она разрыдалась, упала ничком па полку, зарылась лицом в подушку.
— Вы ее не слушайте, болтает всякую ерунду, — сказал нам Толеген.
— Ерунду?! — Гуля вскочила, в мокрых глазах плескались гнев и презрение. — Обрадовался, что мои родители уступили твоим, согласились выдать меня замуж? Но я не хочу! Ты мне чужой человек, даже хуже, чем чужой! И отвяжись от меня!
Толеген спокойно смотрел на нее и усмехался.
— Болтаешь всякую ерунду. Самой потом стыдно будет, — сказал он.
Вошел Нургазы. То ли он слышал часть разговора, то ли догадался, в чем дело, только, отодвинув меня плечом, подступил вплотную к Толегену и сказал тихо:
— Убирайся вон! Не то…
— Ха, испугал! — хмыкнул Толеген.
— Надо бы тебе уйти, — посоветовал Иван Степанович. — Смотри, до чего Гулю довел. Не тяни, побыстрей-побыстрей!
Толеген нехотя подчинился.
Плечи у Гули подрагивали. Желая успокоиться, она повернулась к окну. Первый раз в жизни ей довелось ехать по нашей, по своей огромной стране. К бокам поезда прижимались, словно входя в нее самое, — большие и малые перелески, большие и малые реки, луга и деревни. И боль постепенно отодвигалась, затухала, высвобождала из своего насильственного плена.
Поздно вечером, когда поезд миновал Харьков, Нургазы отправился за чаем. Поднялся было за ним и Толеген. Но я остановил его:
— Слушай, а тебе не надоело?
— О чем это ты?
— Ходишь все по его следам, как сыщик, настроение людям портишь…