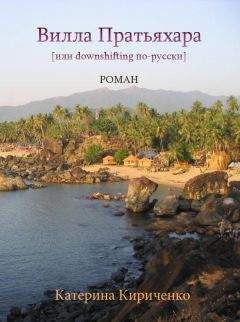Петр Кириченко - Четвертый разворот
— Слабоват ты по этой части, — говорил Павел Григорьевич, выпив. — Ну и правильно.
И прижимал палец к губам в знак полнейшей тайны, хотя, как понимал Виктор, Марина Ефимовна прекрасно знала, зачем они ходили на кухню.
Марине Ефимовне было лет сорок пять, но выглядела она моложе: слегка располневшая, улыбчивая, она смотрела на Виктора с жалостью, которую не умела скрывать. Однажды она вдруг прослезилась и, склонив Виктора, прижала его голову к своей груди, завсхлипывала, приговаривая: «Ах, горе-горе...» И во всем старалась угождать ему, подкладывала лучшие куски, когда, бывало, садились обедать, и смотрела ласково. Наедине с мужем она говорила о том, что у Виктора никого нет и что они должны заменить ему близких.
— Приличный молодой человек, — заключала она, что было высшей похвалой. — Не пьет! — Она строго смотрела на Павла Григорьевича, напоминая, что он обещал не водить Виктора на кухню. — Поменьше с ним разговаривай, ты отрываешь его от Ларисы.
— Но она же играла, — защищался Павел Григорьевич и делал руками какие-то замысловатые фигуры. — Виктор не хотел мешать.
Марина Ефимовна объяснила и дочери, что мужчин интересует не только музыка, и сделала это довольно смело. Лариса привыкла во всем иметь свое мнение и ответила матери, что это не ее дело.
— Сама не маленькая, — добавила она. — Нас связывает музыка... Понимаешь, му-зы-ка!
Марина Ефимовна как раз на музыку и не надеялась, но промолчала, подумав, что надо удвоить внимание к Виктору — на дочь надежды были слабые.
Виктор ценил доброту Марины Ефимовны, но стеснялся, и говорить с ней ему было сложно. Виктору становилось не по себе от ее жалости, к тому же Марина Ефимовна отчего-то просила называть ее по имени. У Виктора язык не поворачивался, и он никак ее не называл, хотя Лариса, говорившая матери «Мариша», убеждала его, что в этом ничего дурного нет, напротив, это даже современно.
— Будь проще! — советовала она, как всегда живо и откровенно. — Тебе почти тридцать! Значит, ты не маленький и должен понимать, что задумываться стоит только над тем, что имеет непосредственное отношение к делу. А имя?.. Чепуха! Не все ли равно, как называть, тем более если она просит, значит, ей так приятно.
Виктор отшучивался, спрашивая Ларису, откуда она так много знает, но Лариса сердилась, напоминая, что не любит пустых разговоров.
— Возьми Чекалкиных, — убеждала она — Милые, современные люди! И все зовут друг друга по имени. Все, понимаешь? Решительно все. Это закономерно, потому что в наше время все должно упрощаться, сейчас некогда церемониться... Понимаешь?
Виктор не понимал, к тому же не знал Чекалкиных, а Лариса еще больше злилась, но голос не повышала, напротив, говорила тише и напористей, и спорить с ней было бессмысленно.
— Не в них дело, — продолжала она. — Пусть ты их не знаешь, пусть! Но ты обязан знать другое: во всем должна быть простота, никаких излишеств... Мы должны высвободить себя для искусства, для музыки, для чего-то высшего. А если мы будем задумываться над каждым пустяком, то никуда не двинемся. Жаль, что ты этого не понимаешь, твоя позиция устарела. Жаль!
Виктор и впрямь не понимал такой простоты, да никогда и не думал ни о чем подобном, но после слов Ларисы призадумался, поразмышлял и пришел к выводу, что если все упростить, то будет не до искусства. Неясно ему было и то, отчего Лариса так злится, когда об этом заходит разговор. Ей было двадцать три года, но казалась она не по возрасту рассудительной. Горячность в словах, упрямство сначала Виктора смешили, потому что в них проглядывало что-то озорное, по-детски бесшабашное, это трогало, привлекало. Но со временем он задумался над тем, что Лариса настойчиво вбивает ему в голову не только простоту, о которой столько говорилось, но кое-что другое, похожее на жестокость. И он уже не мог без раздражения слушать, как Лариса талдычила о музыке, о своей исключительности, о том, что надо упрямо идти к цели, не оглядываясь на других.
— Мы посвятили себя музыке, — сказала она как-то Виктору, имея в виду и его. — Это наше дело. А многим людям музыка недоступна, согласись, многие классику не понимают, не могут даже слышать.
Виктор хотел ответить, что тем людям, наверное, понятно что-то другое, не менее интересное, но он знал: Лариса сразу же начнет спорить и доказывать, что ничего интереснее и важнее музыки нет. И он промолчал, а Лариса, словно бы в доказательство своей правоты, стала петь романсы.
Исполнились мои желанья,
Сбылись давнишние мечты... —
громко и старательно выводила Лариса, так, вероятно, как учил ее преподаватель, к которому она ходила два раза в неделю. Голос ее срывался, она досадливо морщила лоб, но не сдавалась и все сильнее ударяла по клавишам.
Виктор приходил к Лопатиным и тогда, когда Ларисы не было дома — умчалась к преподавателю или в филармонию, — и тогда казалось спокойнее, в доме было тише, никто не играл на пианино и не пел романсы. Павел Григорьевич заводил разговор о том, о сем, Марина Ефимовна готовила ужин, после долго пили чай и смотрели телевизор. Виктор скучал и иногда, будто встрепенувшись, спрашивал себя, зачем он сидит и не уходит, но и спросив не двигался, потому, верно, что двигаться было некуда. Домой не хотелось, и он оправдывался тем, что поджидает Ларису. Когда же она появлялась, то дурашливо кидалась ему на шею, веселая, довольная проведенным вечером, смеялась, и мысли ее были о высоком: о музыке или об учителе. А после, провожая Виктора до дверей, целовала его торопливо, будто боялась, что заметят родители, хотя ни Павел Григорьевич, ни Марина Ефимовна в эти минуты в прихожей не появлялись.
— Приходи, — говорила Лариса на прощанье, и это было так привычно, буднично и ни к чему не обязывало, что Виктор понимал; если он и не появится, то ничего страшного не произойдет.
Их отношения больше напоминали игру: они давно чувствовали, что пора расстаться, но отчего-то медлили... Если бы не гибель матери, то Виктор, наверное, раньше бы сделал первый шаг, но так все повернулось, что он приходил к Лопатиным вечерами, сидел у них допоздна. Лариса однажды упрекнула его в том, что он приходит не к ней, а к родителям. В этом была доля правды, и Виктор не стал отрицать.
— Да, но вины моей нет, — сказал он. — Ты все время занята, и мы редко бываем одни.
— Но сейчас мы одни, — с вызовом ответила Лариса, глядя ему в глаза. — А ты собираешься уходить...
Она подступила к Виктору и обняла его, дурашливо шепча на ухо: «Почему ты уходишь?.. Почему?..»
— Сейчас придут родители, — попытался он отговориться, думая о том, что этого как раз делать и не следует.
И Лариса, почувствовав, что Виктор пытается отстранить ее, обняла покрепче и после так проворно и ловко все сделала, что он не успел ни возразить, ни удивиться.
Несколько дней Виктор не ходил к Лопатиным, потому что не представлял, как он посмотрит в глаза Марине Ефимовне и Павлу Григорьевичу. Было стыдно, грустно и как-то не по себе от мыслей о женитьбе. Виктор полагал, что если это произошло, то он обязан сделать предложение. Родителям Ларисы было бы приятно, если бы однажды вечером он явился с цветами, нарядный и торжественный и сказал о любви к их дочери. И чтобы все было так, как происходило в незапамятные времена. И они, как всякие родители, погрустили бы, а Марина Ефимовна еще и всплакнула... Начались бы разговоры о свадьбе: где устроить и кого пригласить. Оставшись одни, они долго бы решали, что подарить молодоженам, и сошлись бы на деньгах и тарелках. Павел Григорьевич к такому торжеству мог бы придумать что-нибудь новенькое, вазу или кувшин.
Решившись, он позвонил Ларисе, и они встретились у филармонии. Виктор сказал ей все, что передумал за эти дни: о женитьбе, о родителях и о своей грусти. Лариса выслушала его с улыбкой, сказала, что он все усложняет.
— Какая свадьба?.. Мне надо учиться. Ну почему у тебя все так сложно? — еще раз повторила она. — А родители ничего не знают и знать не будут. Сама не маленькая...
И тут же она заговорила о предстоящем концерте, о том, что можно купить лишний билет и они пошли бы вместе. Виктор отказался и поехал домой. Странно, но после слов Ларисы ему не стало легче. Он думал о том, что должно пройти два или три года, пока Лариса устанет бегать к преподавателю и в филармонию и ей захочется того, чего хотят все женщины, — семьи, детей. О консерватории надо было бы давно забыть, потому что у нее нет ни голоса, ни слуха. Но никто не хотел сказать ей правду, а сама она не понимала.
После того дня, когда Виктор заезжал на Невский, что-то изменилось, и он решил поговорить с Ларисой еще раз. Ему казалось, если объяснить ей все, она поймет. «Никто не заставляет замыкаться в жизни, — думал он так, будто бы уже говорил с Ларисой. — Можно заниматься и музыкой, можно ходить в филармонию, но надо понять, что жизнь гораздо шире, разнообразнее. И потом, надо смотреть правде в глаза и не строить на песке...» Последние слова казались настолько точными и очевидными, что Лариса никак не могла не понять его. Виктору пришло в голову, что лучше бы встретиться с Ларисой не дома, пригласить ее куда-нибудь, тем более что они давно никуда не ходили. Он представил, как они будут гулять и он сможет неторопливо и осторожно высказать то, о чем думал.