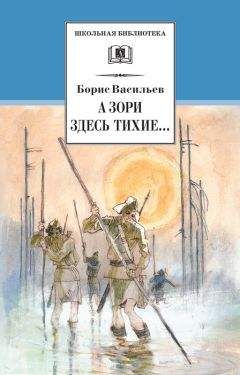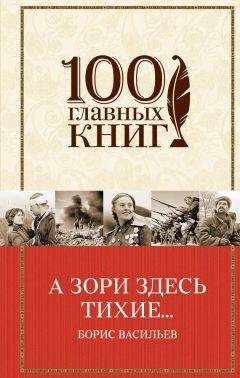Иван Вазов - Повести и рассказы
— Да, да, дедушка Нистор, люди знают, что делают и кого выбирают. Согласие — согласием, да в башке-то что, вот вопрос.
Так как дед Нистор ничего не ответил, Хаджи Смион, расхрабрившись, спустил обе ноги и дерзко заявил:
— Я тоже за них голос подал и еще подам, потому что это люди достойные!
Иванчо Йота, до тех пор молча прихлебывавший кофе и только кидавший враждебные взгляды на Хаджи Смиона, вдруг вскипел:
— Достойные! Имени своего грамотно написать не умеют и прочее… Тарильом подписывается не «Варлаам», а «Фарлам»; вместо «веди» — «ферт»{42} ставит да одно «а» выбрасывает и прочее!..
— Э, что Варлаам, что Фарлам — все едино. Ну какая от этого беда? — возразил Хаджи Смион, который был не из тех, что позволяют сбить себя с толку.
— Как «все едино»? — спросил Иванчо Йота. — По-твоему, можно сказать «пророк Фарлам» и прочее? Никакой беды, а? Выходит, все равно, что в руках: валек или перо? Назад, назад пятимся, ни на что не годимся.
— Известное дело, не годимся, — подтвердил Хаджи Смион.
Иванчо Йота злился на то, что, вопреки своему ожиданию, не был выбран в попечители. Он считал, что эту пакость устроил ему учитель Гатю, с которым они как-то раз поспорили насчет правописания.
— Вон идет! — крикнул один из присутствующих.
— Кто?
— Тарильом.
— И несет рыбу.
— Остановился, здоровается с Коной Крылатым.
— Но куда это он вдруг так заторопился, словно его гонит кто, и прочее?
— Просто летит…
— Разве не видишь? Селямсыз сзади показался.
Все столпились у окон.
В самом деле, в верхнем конце улицы показался Селямсыз с рыбой в руке; но, встретив Нечо Райчинчина, остановился, чтобы что-то ему сказать, — наверно, почем купил рыбу, которую он при этом поднял кверху. Потом он встретил Марина Хаджи Цакова и, видимо, пожелал ему доброго утра, так как поглядел на солнце. А завидев впереди дедушку Постола, догнал его и начал ему что-то рассказывать — должно быть, что-нибудь очень важное, так как не заметил прошедшего рядом приятеля своего Ивана Распопа и не поздоровался с ним, так же как и потихоньку уходившего Варлаама Копринарку — и не изругал его.
II. Варлаам Копринарка
Варлаам Копринарка, по прозвищу Тарильом, шел к себе домой. Ему было ровно сорок девять лет и два месяца; лицо он имел длинное, худое и постное, как у святого Ивана Копривара; он носил красный фес цилиндрической формы и широкие шаровары, которые очень к нему шли. Это был человек скромный, благонравный, женатый и жил выделкой шнуров, о чем свидетельствовали обе руки его, вечно вымазанные самой лучшей индийской синькой.
Варлаам Копринарка чуждался всякого разврата: он говел по средам и пятницам, носил пестрые чулки, которые вязала ему жена, рано ложился спать и рано вставал, почему Иван Бухал, великий насмешник, говорил, что Варлаам ужинает с нищими, ложится спать с курами и встает с петухами. Он не пил вина, не курил, был человек передовой, регулярно ходил в церковь, очень редко в кофейню и никогда не ходил в суд, если не считать его тяжбы из-за водосточной трубы с соседом Иваном Селямсызом — они уже много лет таскали друг друга по кадиям. Но что это была за ссора, святой архидьякон Стефан! Даже жены их, Варлаамица и Селямсызка, страшно друг с другом враждовали, и взаимная ненависть их доходила до того, что Варлаамица не называла Селямсызку иначе, как «салотухлое» по причине желтых пятен на ее заплывшем жиром лице, а Селямсызка звала Варлаамицу «клопихой», имея в виду ее малый рост и великую кровожадность. За два месяца до описываемых событий Варлаамица, сойдясь с Селямсызкой на площади у колодца, отведала ее скалку на своей спине, чуть повыше локтя. С тех пор Селямсызка стала чаще отводить воду ручья, либо, увидав в щелку, что Варлаамица моет руки в ручье, тотчас выльет в него помои из корыта, оставшиеся после стирки детского белья… А Варлаамица чуть не лопалась от злости.
А как нежно любил Варлаам свою жену! Как страстно и ласково говорил о ней:
— Она мне нынче похлебку из фасоли сварила, только уксусу перелила, и та маленько кислая получилась, вроде улыбки Фачко Зобидренки.
Только при своем приятеле Хаджи Смионе он дает себе волю и запросто называет жену «фалимилией» — так же как слово «метода» он в присутствии Иванчо Йоты однажды произнес «методiа». Напрасно Иванчо Йота, отличающийся весьма дурным характером, убеждал его, что метода — одно, а методiа — другое, и что грамматика где угодно позволяет писать i, только не в слове «метода», — Варлаам Копринарка, тоже не чуждый учености (он в свое время готовился стать дьяконом в Гложденском монастыре), уперся на своем и не пожелал признать авторитета Иванчо. В связи с этим отношения Иванчо Йоты и Варлаама Копринарки не были приятельскими.
Но, помимо цилиндрического красного феса, который сохранился от первого периода царствования султана Меджида, устояв против всех посягательств моды, Варлаам Копринарка обладал еще одной особенностью: он был очень умен и любил выражать свои мысли с помощью глубокомысленных иносказаний, почему дедушка Постол был того мнения, что он читал Соломона. К примеру, встретит мясник Колю Варлаама, идущего рано утром с засученными рукавами к колодцу на площади, чтобы ополоснуть себе лицо, и скажет ему: «Доброе утро, Варлаам!» — а тот ответит по-церковному, нараспев: «Доброе ли, нет ли, а уж так говорится…» Что должно означать: «Слава богу, Варлаам знает, что делает».
Скажет ли кто ему в июльскую жару:
— Что ты напялил эту дурацкую телогрейку? Жара дьявольская. Или боишься озябнуть?
Он отвечал:
— Горячее палит, холодное холодит, а обожжешься на молоке — станешь дуть на воду…
Это значит, что одиннадцать лет тому назад Варлаам простудился в Петров день и долго болел, после чего голова его сверху стала похожа на Сахару.
Но особенно любезно Варлаам Копринарка разговаривал с Коной Крылатым, соседом, жившим по другую сторону ручья и больше похожим на бочку в штанах, чем на порхающую птичку. Сядут они, например, летним вечером, при луне, каждый у себя на пороге, без шапок, в одних рубашках и подштанниках, в туфлях на босу ногу, — и начнут мирно беседовать о том о сем: о политике, о курах, о пряже, о луне. И Коно Крылатый (господи боже, ну какой же он крылатый?), пуская дым от цигарки прямо в небо, говорит:
— Посмотри-ка на луну, Варлаам… Небось, большущая… Поглядишь ей в лицо, — словно бы живая. А кто ее знает…
Варлаам кинет взгляд на небосвод и скажет:
— Может, живая, а может — и мертвая. Все сие — умышление… Вот, скажем, ручей. Ежели муравей перед ним остановится, так скажет: море! Ты скажешь: ручей! А Фарлам говорит тебе: море! Воистину чудесны чудеса господни!
Коно Крылатый задумается, потом опять спрашивает:
— А ну как она на нас упадет? Вот пока мы здесь сидим… А? Страх какой!
— Не упадет, — промолвит Варлаам.
— А ты веришь, что это — звезда? Так бродяга этот в школе учит, безбожник…
— Звезда? Звезда-то звезда, но пророки и ученые, и благородные, согласно писанию, как написано, так и нарекли, и так оно и было от века и до века… «Познало солнце запад свой». Вот какая это звезда и какое удивление!
Тут Коно Крылатый снова погружался в астрономические размышления и, всем своим видом как бы выражая восклицание, шептал:
— Много читал, много знает!..
III. Иван Селямсыз
Это был человек лет шестидесяти, высокий, косматый, огромного роста, почти Голиаф, только вместо одеяния древних филистимлян носивший огромную мохнатую шапку, длинный кожух, крытый домотканым сукном, красный пояс в восемнадцать локтей и вечно расстегнутые ниже колен короткие черные шаровары старого покроя, которыми он, однако, дорожил как воспоминанием о холостой жизни. Селямсыз продолжал сам перекапывать свой виноградник и ухаживать за розами; он был еще полон здоровья и сил. Лицо его, украшенное густыми бровями и совершенно седыми усами, полное, красноватое, привлекало к себе всеобщее внимание. Он замечал это не без удовольствия и при всяком удобном случае по одним только ему ведомым причинам старался изобразить себя перед молодыми женщинами более старым, чем был на самом деле.
— Что так глядишь на дедушку, красавица? После рождественского поста мне семьдесят стукнет… Ну, чего уставилась?
И подмигивал лукаво.
А помощнику учителя Мироновскому, которого он звал «джансыз»{43}, потому что тот был кожа да кости, советовал есть по утрам чеснок с шелухой, а вечером — без шелухи и выпивать пол-оки{44} киселярского вина, так как оно-де имеет кроветворное свойство, да после уроков приходить к нему, Селямсызу, в виноградник, где для гостя всегда найдется лишняя мотыга.