Борис Мегрели - Без всяких полномочий
В зале то и дело раздавались аплодисменты, слышались незнакомые мне слова «подпушка», «напуск», «подрубка», «заворот», «подбор».
Женщина рядом со мной шепнула, когда на помосте вихляла бедрами манекенщица в рубашке до колен:
— Смело, правда? Но вы, мужчины, не позволите своим женам носить такие платья. Вот и попробуй в одиночку поднять Грузию. Нужно всем объединиться.
По виду она могла бы поднять не только Грузию, но и весь земной шар. Я промолчал.
Наконец дошла очередь до вечернего туалета — сильно декольтированной рубашки. Глядя на манекенщицу, я не мог отделаться от мысли, что полуголая девушка пытается вылезть из мешка, но ей не очень удобно это делать в присутствии посторонних.
Женщина-комментатор объявила, что все представленные платья сшиты из ткани «Ариадна» производства Кутаисского шелкового комбината. «Ариадна», кажется, начинала преследовать меня.
Просмотр закончился. Все встали и шумно начали обсуждать моды. Многим не давали покоя Кристиан Диор, Шанель и чуть-чуть Карден. Слова, фразы наталкивались друг на друга, разлетались в стороны, мешались, сливались, создавая невероятный гул с всплесками чувствительных «о, да!».
Делать мне больше было нечего. Я направился к выходу. В дверях я столкнулся со своей соседкой и, извинившись, пропустил ее вперед.
Она улыбнулась и спросила:
— Каковы ваши впечатления?
Свои впечатления я собирался описать в фельетоне. Правда, я не был уверен, что фельетон напечатают, но думать об этом не хотелось. Когда думаешь, напечатают или не напечатают, пропадает настроение и пишешь гораздо хуже.
Я, конечно, умолчал о фельетоне, зато сказал, что демонстрация запоздала лет на пять. Моя соседка оскорбилась и громогласно заявила:
— Вы ничего не поняли!
На нас обратили внимание. Кто-то в толпе сказал:
— Что случилось, Венера?
Бог ты мой, ко всему прочему, она еще и Венера, подумал я и сказал:
— Что же тут понимать, если старое выдают за новое?
— Нового в моде нет! Все новое — это обновленное старое! — безапелляционно заявила Венера. — Да, не мы придумали прямые линии, прямой раскрой, но мы внесли в эту моду грузинские национальные элементы.
Нас обступили знакомые Венеры, и среди них было немало крепких мужчин, грозно глядящих на меня.
— Ну хорошо, — сказал я. — Позвольте задать вам один вопрос. Почему вы и ваши подруги не пришли сегодня в таких же платьях?
— Это провокационный вопрос, — неуверенно сказала Венера, и я, воспользовавшись некоторым замешательством ее окружения, пробрался к лестнице.
— Нахал какой-то! — услышал я вслед.
Приехав домой, я сел за машинку, чтобы написать первый фельетон в своей жизни.
Фельетон Нане понравился.
— Я не знала, что у тебя есть чувство юмора.
Ее бесцеремонность могла вывести из себя даже флегматика. К тому же я был не в духе — в течение двух часов не мог дозвониться до Нины. Я решил, что, если с самого начала не поставить все на свои места, мне суждено будет всю жизнь ходить у Наны в нерадивых учениках.
Из ее сотрудников в отделе сидел только Гоголадзе. Он старательно водил ручкой по бумаге и не слушал нас.
— Ты полагаешь, что все чувство юмора сосредоточено в тебе одной?
Нана вскинула на меня накрашенные ресницы.
— Леван заразил тебя болезненным самолюбием? Ты всегда отличался серьезностью, и я не ожидала, что тебе удастся фельетон.
— В таком случае выражай свои мысли яснее.
— Какая муха тебя укусила?
— Нана, оставь этот материнский тон, займемся фельетоном.
Она вскипела и в одно мгновение превратилась в фурию.
Гоголадзе осторожно вышел в коридор. Видимо, будущий пенсионер в такие моменты старался не попадаться на глаза своей экспансивной начальнице.
Нана швырнула рукопись и велела мне убираться на все четыре стороны. Листы разлетелись. Я подобрал их и, прихватив свою папку, направился к выходу. Нана продолжала кричать:
— Ты свое самолюбие проявляй в другом месте! Ему делают одолжение, помогают, уступают тему, а ему, видите ли, мой тон не нравится!
— По-твоему, в знак благодарности я должен поцеловать тебя в пятку?
Она оторопела лишь на секунду.
— Почему бы и нет?
— Пусть это делают другие! — сказал я и захлопнул за собой дверь.
Спускаясь по лестнице, я впервые с тех пор, как вернулся в Тбилиси, с сожалением вспомнил своих учеников, школу, которую не любил, директора, который не мыслил жизни без школы. А ведь я мог стать хорошим учителем, если бы не уверенность в ином призвании. Иное призвание! И многого я добился?
— Серго! — услышал я сверху голос Наны. — Оставь фельетон.
— Свет клином не сошелся на вашей газете, — сказал я.
Нана сбежала вниз.
— Отдай фельетон. Ты его писал по моему заданию.
— Ты не заказывала фельетона. Впрочем, возьми. — Я отдал ей первый экземпляр рукописи. — Если в завтрашнем номере он не будет напечатан, я предложу его другой газете.
— Нахал! Вот нахал! — всплеснула руками Нана.
Второй раз за этот день меня называли нахалом. Так нетрудно поверить в свою беззастенчивость.
— Безработный заносчивый нахал! — уточнил я.
— Хватит валять дурака! — сказала Нана. — Мало ли что я наговорила сгоряча. — Она взглянула на часы. — Некогда мне с тобой объясняться! Пока.
На улице я позвонил из автомата Нине. Ее все еще не было дома. Я с досадой нажал на рычаг и набрал номер Мананы.
— Жду вас. Вы нужны, — сказала она.
На всякий случай я решил еще раз набрать номер Нины. И снова раздражающие длинные гудки. Я собрался повесить трубку, когда услышал порывистый голос Нины.
— Где ты была? Я звоню два часа.
— Задержалась в поликлинике. Массажистка подвела. — Она перевела дух. — В дверях услышала звонок. Ты что, сердишься?
Я поймал себя на том, что вовсе не сержусь. Металлические нотки в моем голосе, равнодушие — все это напускное, а в душе и только нежность к ней. И я, испуганно подумав, что отталкиваю от себя Нину, сказал:
— В кино пойдем?
— Сейчас?
— Сейчас я занят. На восьмичасовой сеанс.
— А что показывают?
— «Великолепную семерку». Кровь льется рекой, стрельба, погони, лошади и прочее. Пойдем?
— Пойдем. Ты позвонишь?
— Как только освобожусь. Ты никуда не уходи.
— Ладно. — Она засмеялась.
Из телефонной будки я вышел в приподнятом настроении. Не так уж все плохо, сказал я себе. Старик в парусиновом пиджаке осторожно обошел меня. Я проводил его удивленным взглядом, а потом понял причину испуга прохожего — я улыбался.
Манана была не одна. На диване сидел кудлатый мужчина в индийских джинсах и черном пиджаке. Я решил, что это, как говорят в театре, автор, и сказал Манане:
— Я подожду в фойе.
— Входите, Серго, входите! — сказала она.
Кудлатый встал и протянул мне руку.
— Очень рад с вами познакомиться. Герман Калантадзе, режиссер.
— Герман прочитал вашу пьесу и не дает мне покоя. Хочет поставить ее, — сказала Манана.
Моим первым порывом было желание обнять этого кудлатого человека. От радости я потерял дар логического мышления. Но когда порыв прошел, я растерялся. Еще недавно пьесу намеревался поставить главный режиссер театра Тариэл Чарквиани… Манана словно прочитала мои мысли.
— Тариэл репетирует «Мамашу Кураж», а Герман свободен, — сказала она. — Пьесе нужен режиссер. Без режиссера пьеса будет лежать без движения. Понимаете?
— Понимаю, понимаю, — поспешно ответил я.
Мы уселись. Герман закинул ногу на ногу, и запах его туристского ботинка на рифленой резиновой подошве ударил мне в нос.
— Тариэл не возьмется за вашу пьесу, — сказал Герман, опустил ногу, закинул на нее другую и стал ею покачивать.
— Слушайте, вы расквасите нос автору, уберите ногу, — сказала Манана.
— Извините, дурная привычка. — Герман поджал ноги, пытаясь загнать пятки под диван. — Одна из причин — форма пьесы. Нет в ней легкости, ажурности конструкций.
Я разозлился.
— Мне всегда казалось, что форма должна соответствовать содержанию. Нельзя же говорить о серьезных проблемах под канкан!
— О серьезных проблемах можно говорить подо что угодно, — сказал Герман. — Более того, нужно серьезные проблемы облекать в легкие одежды, не нарушая, разумеется, единства формы и содержания. Сегодня зритель не тот, что вчера. Ему подавай музыку, песни, танцы.
— Значит, кому-то из моих героев дадим в руки гитару, а сцену столкновения директора с начальником главка проведем под пение Фрэнка Синатры. Жаль, он не поет песен на производственные темы. А в финальной сцене при известии, что директора снимают, его дочь исполнит танец живота.
Манана и Герман переглянулись.
— Герман так не считает, — сказала Манана.
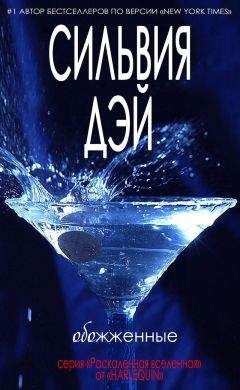
![Петр Киле - Свет юности [Ранняя лирика и пьесы]](/uploads/posts/books/255498/255498.jpg)
![Петр Киле - Свет юности [Ранняя лирика и пьесы]](/uploads/posts/books/255683/255683.jpg)

