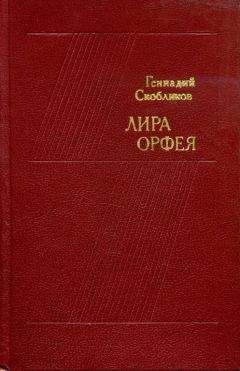Геннадий Скобликов - Старослободские повести
Варвара, после того, что рассказала ей няня, как-то не решилась прямо и просто посмотреть в глаза этой Гале — только вскользь прошлась по ней взглядом. Галя, видать, была высокая, но слишком уж тоненькая и худенькая, — и Варвара по этому первому взгляду дала б ей лет шестнадцать-семнадцать.
— Вот, Галя, привезли тебе соседку, — сказала вошедшая следом сестра, и Варвара отметила излишнюю бодрость в ее голосе.
Она кивнула Гале: мол, здравствуй, милая, принимай меня, раз уж так оно вышло нам... лежать тут вместе (ей подумалось: умирать тут вместе, но она поспешила погасить в себе это слово, заменила его словом л е ж а т ь) — и с этим выражением, никем, конечно, не замеченного смятения на лице встретила взгляд девушки.
...Пристальный, прямой, серьезный взгляд. И увидела, что поначалу ошиблась, дав Гале лет шестнадцать-семнадцать: ей было лет двадцать, если не больше. И это несоответствие девчоночьей хрупкости Гали с серьезным выражением ее бледного бескровного лица и особенно этих ее широко открытых серых темных глаз, в которых вместе с ответным приветствием было и еще что-то... будто испытующее, смутило Варвару. Она еще раз взглянула на девушку — и опять встретила эти ее глаза: широко открытые и прямо смотрящие на нее, Варвару, не отчужденные — но и не приветливые. И во все время, пока сестра и няня помогали ей перебраться из коляски в кровать, она чувствовала на себе этот взгляд девушки.
И бог уж знает отчего, но ей стало вроде даже боязно встретиться опять взглядом с этой Галей. Вроде как виноватой в чем-то оказывалась она, Варвара, перед этой девушкой, хотя они и видели-то друг друга первый раз в жизни.
И первое, чему поддалась Варвара, было естественное в этой обстановке для нее, деревенской бабы, самоуничижительное чувство: что, дескать, она вот случайно и незаконно оказалась в такой вот палате, предназначенной для людей совсем других: будто она присваивала себе то, что не ей принадлежало. И это вот молчание девушки, дочери видного в городе человека, этот взгляд она, Варвара, под своим же собственном чувством самоуничижения готова была принять — да и принимала — как выражение того, когда хотят сказать, что-де гусь свинье не товарищ. И когда няня принесла из прежней палаты — что там оставалось в тумбочке у Варвары: банку со сливочным маслом, начатую банку мутного покупного компота, два смятых кулька с конфетами и пряниками и два белых домашних мешочка: один с сахаром, другой с двумя-тремя пригоршнями сушеного терна, — тут, в этой палате, по соседству с этой вот Галей, Варваре стало вроде как стыдно за эти ее банки, кульки и мешочки. Ей так и казалось, что эта Галя обязательно оценивающе осматривает весь ее провиант и свою оценку переносит и на нее, на Варвару. И сама Варвара, в свою очередь, невольно посматривала на столик Гали, где в большой стеклянной вазе красиво лежали оранжевые апельсины, крупные красные яблоки, кисти винограда, а рядом на каком-то журнале с яркой обложкой были насыпаны разносортные дорогие конфеты. И она даже пожалела, что согласилась перейти в эту палату: в той, прежней, где их лежало в тесноте восемь человек, она чувствовала себя незаметной, никак особо не отличалась от других, никого там не смущалась. А тут, казалось ей, даже неудобным будет теперь развязать хотя бы тот же мешочек с терном и покислить рот. (Как-то раз попросила она Колюшку привезти ей этого терна: вот как захотелось ей тогда его! — а он взял и привез ей полный этот мешочек. Она смеялась над сыном: куда столько! — но оставила и потом почти весь раздала соседкам, понравился он им. Терн этот она рвала еще прошлой осенью, все там же около старой кузницы: он там крупный, мясистый, — и теперь, отволглый и мягкий, был вкусный и хорошо освежал пересыхавший рот. Каждый раз, когда сушило во рту, она доставала из мешочка несколько этих черных ягод и потом долго сосала их по одной, пока не оставались от них чистые косточки.)
Это чувство такого вот неудобства за себя перед другими было ей не вновь... но она и знала, что все это только так, поначалу, а потом все становится на свои места. Ее такое вот самоуничижение — это то обычное первое, что всегда бывает, когда попадаешь в обстановку, отличную от той — и более лучшую, чем в какой живешь сама. Всегда так: попадешь туда, где все чище, культурней, что ли, чем в твоей жизни, — и сразу же это вот неудобство за себя, вроде ты уже и вся неуместна в этой иной обстановке... вроде ты и чем-то хуже тех людей, кто живет почище и побогаче, чем ты. И в то же время сама знаешь, что по сути все это не так, что на самом деле ты не считаешь себя в чем-то ниже или хуже этих других людей... да только вот это истинное, ка́к ты знаешь о себе, — оно всегда и остается как бы про себя, а на люди так вот и толкает выказать эту свою неуместность в той обстановке — что вроде бы не про тебя. И теперь то же самое было с нею: увидела она эту палату — и сразу самоуничижение: она, деревенская баба — и в такой палате! А одновременно и это вот, что в глуби себя: такой же она человек, как и другие, какие б они там ни были видные, — и нечего ей стыдиться себя: они пусть и будут, какие там они есть, а она — какая она есть: что знают они друг о друге — кто какой?!
Перемещение этих таких вот чувств и мыслей, происходившее в ней как-то само по себе, пока она с помощью няни и сестры устраивалась на новом месте, было и естественным... и — она сама отдавала себе отчет в этом — неуместным тут: чай, этой вот Гале, бедняжке, и дела-то никакого нет до нее, до Варвары: кто она и какая она...
И уже ничего не оставалось от этого в общем-то дурацкого и неуместного, что только вот что перемешивалось в ней, а просто была теперь только вот эта другая палата, где, конечно, куда лучше, чем в прежней (и сестры, наверное, сюда почаще заходят), и была теперь у нее новая соседка по общему их несчастью — эта вот незнакомая ей Галя... о ком она со слов няни знала уже все наперед, если — не хотелось даже представить — все это так и будет. И она, посматривая сбоку на Галю (та так и лежала, с книгой на груди, и думала там что-то свое: собой приятная, лицо чистое, светлое... но больно уж худенькая, вон плечики-то какие, а руки тоненькие да длинные...), жалела ее не просто обычной человеческой — а почти материнской жалостью.
И она повернулась и посмотрела на Галю уже просто как на младшую из них двоих.
— Ты, Галь, дёр когда-нибудь ела? — неожиданно для самой себя спросила Варвара.
Девушка вздрогнула, потом повернулась к Варваре и вопросительно смотрела на нее. Прядь светлых волос упала ей на глаза, и она резким взмахом головы убрала их.
— Ты уж не смейся надо мной, деревенской бабой, — без всякой нарочитости, просто сказала Варвара. — Какая уж есть.
— Ну что вы! — И Галя несколько растерянно и приветливо улыбнулась ей. — Я... читала и теперь вот просто лежала и думала. — Тень чего-то неприятного и, наверное, трудного промелькнула на ее лице, девушка недовольно поморщилась — и этим как бы отбросила то, что там подступало к ней. — ...Вы извините. Как вы назвали?
— Ну, по-вашему, по-городскому: терен, а по-нашему просто дёр, — объяснила ей со снисходительной улыбкой к самой себе Варвара. — Ты, наверное, подумала: вот еще и с мешками пришла — да?
— Ну что вы! — Галя искренне смутилась, и глаза ее заморгали часто-часто. — Я и не думала ничего. А можно попробовать?
— Чего ж нельзя! — обрадовалась Варвара. Эта Галя пришлась ей по сердцу.
Она развязала мешочек. Галя сдвинулась к краю кровати, протянула через проход к Варваре длинную тонкую руку. Варвара насыпала в узкую ладошку Гали черных сморщенных ягод.
— Он мытый, Галь, — сказала она. — ...А можно и позвать няню, пусть еще помоет.
— А! — отмахнулась та и опять презрительно сморщилась: — Не все ли равно, что ли!..
«Знает, должно...» — подумала Варвара и пристально, уже как-то по-новому посмотрела на Галю. А та взяла несколько ягод, положила их в рот и сосредоточенно работала зубами, отделяя мякоть от косточек. «Конечно, знает», — решила Варвара, хотя и не увидела ничего такого в лице девушки.
— Вкусный, — обернулась к ней Галя. — Я ела этот терен, только прямо с веток. Мы осенью в колхоз на уборку ездили, там его тоже много было.
Господи, без всякого унижения этой Гали подумала Варвара: с твоими-то руками — и в колхоз на уборку! Что ж ты там делала ими, бедная? Этими твоими пальчиками: вон какие тонкие да длинные — а и красивые, нечего сказать! — с ними только вот книжки читать да там на пианино ваших играть. У них, у деревенских, от веку таких рук не бывало.
— Что ж вы там делали, в колхозе этом? — не скрывая только что думанного, добродушно спросила она.
— На картошку нас посылали. Вас как называть можно?
— Варварой мать с отцом назвали.
— А по отчеству?
— Отца Петром звали. Тетей Варей, Галь, — как же еще меня называть. У нас этого добра, Галь, — вернулась Варвара к терну, — хоть возами рви. Я каждый год помногу насушивала. Только смотри, не ругай потом меня, — засмеялась она, — от него зубы темнеют.