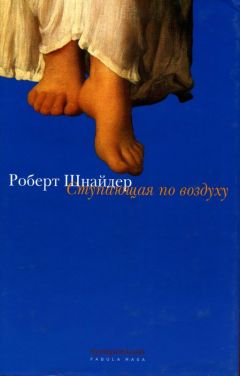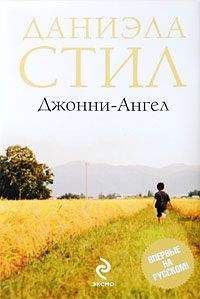Анатолий Соболев - Награде не подлежит
— Чего уж. Не чужие.
Дунула на лампу и легла рядом. Он потянулся к вей.
— Не надо, Костик, — бесконечно, усталым голосом сказала Люба. — Спи спокойно.
Он затих возле нее, чувствуя знакомое тепло, вдыхая ее родной запах, а Люба лежала пластом на спине и тоскливо говорила:
— Господи, и зачем мы только с тобой встренулись?
— Я люблю тебя. — Сладкие слезы подступили ему к горлу.
— Нет, — выдохнула Люба. — Это тебя просто к бабе тянет. Тот же хмель, да не та бражка.
— Люблю, — повторил Костя, не понимая, почему она не верит ему.
— В тебе мужик проснулся, вот он и говорит невесть чего, — с горечью пояснила она. — А мне жизнь надо строить. Побаловалась с тобой, и будя. Погрелась у чужого огонька, и хватит, пора и честь знать.
— К нему пойдешь? — догадался Костя и отодвинулся от нее.
Подсунув ему под голову руку, Люба притянула Костю к себе, как прижимает ребенка мать, и тихо, как несмышленышу, стала объяснять:
— Пойду. Куда мне теперь? Может, простит. Где гроза, там и милость.
Помолчала, думая о своем решении: со старшиной они ровня, оба потерты жизнью, оба немало повидали, у обоих есть прошлое.
— Как раздумаюсь, так сердце мрет, хоть криком кричи. — Но тут же оправдывая старшину, торопливо сказала: — Он ведь с серьезными намерениями. У него дите в деревне. Жена померла за войну. А он на сверхсрочную остался, завскладом. Хочет девочку сюда выписать. Я ей заместо матери стану.
— Так это тот сержант? — удивленно спросил Костя и вспомнил, что было что-то знакомое в фигуре мужчины, когда он вышел из комнаты, только в темноте не разобрал.
— Тот. Он теперь старшиной стал.
— У-у, гад! — Костя разом вспомнил все обиды. — И ты с ним...
Люба ладошкой прикрыла ему разбитые губы. Ладонь была теплой, мягкой, пахла чем-то душистым и горьковато-сладким, будто черемухой.
— А я девочек люблю, — сказала Люба и вдруг призналась: — У меня ведь дочка была.
— Дочка? — удивился Костя. Он никак не мог представить, что у Любы была девочка. — Как дочка?
— Так, дочка, — вздохнула Люба. — Померла от скарлатины. Такая хорошенькая толстушка... Полтора годика ей было.
Он слышал, как под теплой и мягкой грудью Любы тревожно и сильно билось сердце, и, слушая этот родной стук, еще больше жалел и любил ее.
— Пойду, — обреченно вздохнула она. — В ножки упаду.
— А как же я? — спросил он, охваченный обидой. Говорит, будто его тут и нету.
— Ты? — Люба еще крепче прижала его голову к себе. — Ты, Костик, своей дорожкой пойдешь, а я своей тропиночкой. Разошлись наши стежки-дорожки. Не суждено нам. Не пало счастья нам, — тоскливо простонала она. — Нелегко мне будет. Ох, нелегко! Видал, бутылку-то не забыл. А кулачищи у него! Вон как вдарил. Сердце-то не удержало руку.
Костя потрогал языком разбитые вспухшие губы, прислушался к боли в затылке и вдруг понял, что старшина ударил и ее.
— Он и тебя бил? — Костя отстранился, вглядываясь в ее лицо, слабо освещенное огнем из открытой печки, увидел мокрые оплывшие глаза.
Люба не ответила.
— Гад! — сказал Костя: — Женщину бьет. Гад! Ты не плачь, Люба, не плачь.
— Реви не реви, а жить надо, — вздохнула Люба и ладошкой отерла щеки. — Знаю, на что иду. Бабы завсегда знают, на что идут, а идут.
— Я его завтра найду, я ему, гаду!..
— Пойду, поклонюсь, — повторила Люба, будто и не слыша, о чем толкует Костя. — Он ведь с серьезными намерениями. А кулаки... что ж... Я баба здоровая, вон какая гладкая. Выдюжу. Улещать стану. Ничего! — с отчаянной беспечностью заключила она. — Всех бьют. Вон в деревне у нас, бывало... На то мы и бабы.
В печке, догорая, потрескивали дрова. Свет из открытой дверцы падал на пол кровавым пятном. Тихо стучали ходики на стене. И тихо падали в полумрак тусклые слова, будто рассказывала Люба не о себе, а о ком-то чужом.
— Я места себе не находила, когда уехал ты. Криком кричала. Сердце болью запеклось. Пореву-пореву да закаменею. А приду в себя, убеждаю сама себя: «На кого позарилась, глупая! Не по себе деревцо рубишь, не того поля ягодка: ты — уж перезрела, а он только соком наливается; ты уж износилась, а он только на ноги поднялся». Говорю так-то себе, слезой умываюсь, а у самой сердце кровью обливается. Не пара мы, Костик, не пара.
— Пара, — убежденно сказал Костя.
— Не-ет, — со вздохом сказала Люба. — Не на свое позарилась я. Оприютить захотела тебя да и самой возле огонька погреться. А вышло — тебя намучила, себя напозорила. Ты уж не держи на меня сердца.
У Кости от любви и жалости перехватывало горло. Он по-щенячьи потянулся к ней, чтобы обласкать, облегчить ей душу, но Люба поняла его не так.
— Не надо, Костик. На душе муторно.
Но он настоял на своем, и она, нехотя, подчинилась, а Костя вдруг с ужасом обнаружил свою беспомощность и застонал от стыда и отчаяния.
— Что ты! Что ты! — всполошилась Люба. — Не думай, не думай! Ты верь в себя, верь, миленький мой, сладенький. Худого не думай. Горе ты моею...
Люба целовала его и все шептала и шептала что-то ободряющее, нежное. Прощаясь с ним навеки, она исступленно ласкала своего мальчика, единственного родного человека на земле.
Утомленный, он уснул на ее руке, покатился в сон, как в пуховую яму. Люба, боясь пошевелиться, глядела в темный провал потолка, и слезы душили ее, текли по щекам, мочили наволочку...
Сколько мест переменила она, пока не закинула ее сюда, на край света, ломаная да путаная дорожка! Все мечталось счастья найти. Да кто его потерял! Каждый в завязанной котомке держит. В самых соковых бабьих годках была, да укатились-скрылись они без возврату, без следочка. Года не хлеб, сами рождаются, и чем дальше, тем подгорелее да горчее. Не думала не гадала, что тут, в холодном краю да в лихую годину, и встретит своего единственного...
Она не сомкнула глаз до утра, слушала ровное, по-детски легкое дыхание Кости и, жалеючи его, боялась шевельнуться, хотя рука, на которой лежала его голова, совсем онемела. Все думала и думала, все перебирала и перебирала летние счастливые денечки...
Изгасли морозные звезды в окне, рассвет засенил стекла, неясно проступили в комнате предметы. Лицо Кости расплывчатым серым пятном лежало рядом. Комната выстыла, тепло сохранилось только в постели, и это было единственное место во всем морозном и чужом мире, где Люба еще чувствовала себя в безопасности.
Ей было жаль будить его, обрывать сладкий сон, но надо было вставать, и она легонько потрясла его за плечи. А он никак не мог проснуться, все выплывал и выплывал из легкого счастливого сна и все не мог выплыть, улыбался во сне, а у нее разрывалось сердце от жалости и близкой разлуки. Наконец Костя очнулся.
— А? — не понимая, спросил он. — Что?
— Выспался? — мокрым голосом спросила она.
— Выспался. — Костя радостно потянулся к ней, хотел обнять.
— Нет, — горько вздохнула она. — Все, Костик, все.
Люба высвободила из-под его головы затекшую руку, быстро поднялась с постели. — Подымайся, поздний час уже, — бесцветным заношенным голосом сказала она.
Он встал.
Теперь, утром, все было по-иному. Он вспомнил, о чем говорила она ночью, и понял, что решение Любы бесповоротно и ему надо уходить. А Люба, омертвев, с непролитыми слезами, наблюдала, как он медленно снаряжается в дорогу, но не останавливала, только спросила:
— Чаю попьешь?
Костя отказался.
Долго застегивал шинель, все никак не мог попасть крючками в петли. Наконец, собравшись, сказал:
— До свиданья.
— Прощай, Костик, — рвущимся голосом отозвалась она и тут же торопливо и стыдясь заговорила: — Ты не думай худого, Костик. Все наладится? Ты верь в себя-то, верь. Да будь посмелей с бабами. Бабы, они силу любят. — Люба всхохотнула, но смешок получился бесстыдным, и ей стало неловко за свои слова, она смутилась, замолчала.
Костя топтался возле дверей, все еще не решаясь переступить порог, все еще на что-то надеясь.
— Еще женишься, — лихорадочно шептала она, беззащитно припав головой к его шинели. — Детки пойдут, счастливый будешь. Счастья тебе, Костик, счастья, милый! Дай я тебя поцелую.
Она осторожно поцеловала его разбитые, опухшие губы,
— Ох, Костя! — со смертной тоской простонала Люба и лицом слепо тыкалась ему в грудь, что-то! шептала прощальное, горькое, прижимала к себе, будто хотела запастись впрок его теплом.
Наконец, пересилив себя, оттолкнула его, твердо сказала:
— Иди!
Костя обернулся, прежде чем переступить порог, он было качнулся назад, но Люба, как бы защищаясь, выставила руки и выгоревшим голосом, будто вытлела у нее вся сердцевина, торопливо прошептала:
— Нет, нет!
А сама криком кричала в себе, держала слезу.
...Он шел по студеному, синим огнем искрящемуся полю, и дома Верхней Ваенги зябко проступали в сизой мгле раннего утра.
Ветер резал лицо. Костя на миг остановился, отвернулся от ветра, чтобы перевести дыхание, и взгляд его упал на приземистый, насквозь промерзший барак, и на крыльце ему почудилось что-то белое, и он было рванулся туда сердцем, но пересилил себя, пошел прочь.