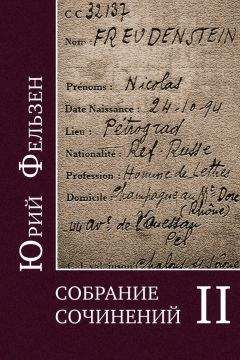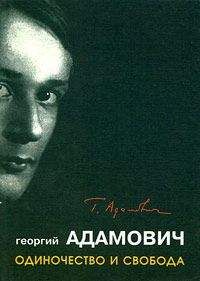Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Леля сама о себе не пишет, и за две недели я от нее получил только открытку с дороги, милую, но очень уж рассеянную, которую запомнил наизусть и которая давно истрепалась в моем боковом кармане. Я ни разу о Леле не слыхал и не знаю, где она и что делает. Первоначального возмущения у меня нет, и условно-дружественные мои письма (на Берлинский адрес Катерины Викторовны) не упрекают и ничего не требуют.
18 июня.
Мое любимое состояние, которое предвкушаю среди деловых разговоров и у Вильчевских, когда я занят или мне мешают, которому готов поя даться, как только останусь один – на улице, в кафе, в метро или дома, у себя, перед сном, – полусознательно хочу назвать пустыми для других словами «я и Леля». У меня с этих слов, чуть слышно и с наслаждением произносимых, с чувства свободы – что всё позволено и, значит, позволено как угодно думать о нас обоих – незаметно оно начинается и словно бы продолжает бесчисленные мои с Лелей воображенные встречи, ненаписанные, непосланные письма, предположительные, раздутые негодованием споры. Всё это возникло давно, задолго до Лелиного отъезда, когда прекратилась – от первой нетерпеливой ее придирки, от постепенно возраставшей моей робости – легкая простота нашей хотя бы внешней дружбы. Даже еще раньше, до Лели, в незапамятно-давнее время, если за вечер я забывал сказать что-нибудь удачное или нужное, то после, припоминая, не мог заснуть, успокоиться, составлял фразы, находил способы их не забыть, иногда – как бы в писательском жару – поднимался, зажигал свет и что-то основное записывал, и, пожалуй, из этих ночных взволнованных припоминаний забытого, из этих исправлений бывшего и запомнившегося и родилось теперешнее, тоже исправляющее, самое приятное мое состояние.
Правда, в те давние годы записанное казалось второстепенным уже на следующее утро, а впоследствии, с Лелей, всё приготовленное пропадало даже и для меня, будучи искусственно навязано живому и постороннему разговору, и возможно, что и теперь, в настоящей, не вымышленной встрече, точно так же оказались бы лишними все придуманные мной обращения (как непохожи действительные мои письма на воображаемые), но то, чем я постоянно и радостно поглощен, появляется и протекает до того естественно, кажется мне столь метким и справедливым, словно это и есть единственно праведное, ничем не стесненное развитие любовного моего отношения, а другое, приличное, разумное и от Лели никогда не скрывавшееся, просто изуродовано ее отпором, и в последние недели – еще отсутствием и расстоянием.
То душевное мое движение, которое как бы пускается в ход магическими словами «я и Леля» – самое заполненное из всех, какие только у меня бывают: и гнев, и благородство, и умиленность доходят до возможного своего предела – без малейшей скупости или сдерживания. Вначале я верил, будто когда-нибудь выскажу всё накопленное, старался запомнить хотя бы главное (например – что не должен любить Лелю из-за доказанной ее ненадежности), потом – очень скоро – это переменилось: у меня чуть не с детства способность с совершенной трезвостью разделять действительное и воображенное (и внезапно, почти незаметно, от одного к другому переходить), и вот теперь, поняв жизненную тщетность моих о Леле постоянных вымыслов, я ими очаровался ради них самих, в чем имеется доля также и эгоистической осторожности – и задевает, и все-таки безопасно. Пожалуй, такая игра могла бы как-то повлиять и на мое настоящее чувство к Леле, придав ему смягчающую искусственность, но то именно, что я разделяю действительное и воображенное с точностью почти безошибочной, препятствует взаимному их влиянию, всякому проникновению одного в другое.
Чаще всего в своих вымыслах я злорадно Лелю упрекаю – у меня с ней какая-то бесконечная тяжба по множеству обидных поводов, и мне хочется не только высказаться, растрогать, постараться Лелю вернуть, но и наказать, убедить в непоправимости ее ошибок, в невозможности для меня забыть и снова сделаться прежним, и так переставляются наши отношения, точно Леля стремится ко мне прийти и загладить свою вину, а я не могу ее принять. Я настолько свыкся с подобным перемещением, с постоянным, сладким и справедливым своим злорадством, что очутился бы в пустоте, если бы Леля на самом деле ко мне вернулась и захотела восстановить прошлое, но это никогда не произойдет.
Я нахожу у Лели бесчисленные провинности (и теперешнее жестокое отсутствие писем, и грубую забывчивость о том, как легко меня уязвить, и попытки уклониться от объяснений после ее же слов, обязывающих к откровенности), но, даже и помня всё это, я должен признаться в недавнем, самом горьком своем открытии – что всё это появилось (правда, бледное и бездейственное) задолго до Лелиного отъезда и до решающего письма Сергея Н., которое стало удобным и благородным предлогом, освобождавшим Лелю от нелепой, наскучившей тягости, а тягостью был именно я. Лелин уход – нечто самостоятельное, независимое от призыва Сергея Н., я так его и воспринимаю – как удар по мне, нисколько не оправданный, не вызванный ничем посторонним, и в злорадных моих вымыслах кое-что и верно: если близкий человек нам нанесет удар, мы иногда и чаще всего прощаем, но прощение не меняет нашего нового взгляда на то, каков человек, как относится к нам (или может к нам относиться), и только в редких случаях, когда всей трезвой своей глубиной мы должны его оправдать – тогда прощаем до конца, но и это прощение лишнее, раз уже нет никакой вины. Лелю мне трудно и не хочется «прощать», и позднейшая ее передо мной вина уничтожает не только легкую радость первоначальных моих впечатлений, но и теперешние – правда, нечастые – воображаемые о ней надежды. Еще сегодня – из-за платка, надушенного ее духами – появилось у меня влюбленное, какое-то беспамятное ожидание (я не сразу сообразил, откуда оно взялось), но потом поневоле вспомнил, как пренебрежительно-рассеянно Леля приняла эти мной подаренные духи, как я тогда (после радостного волнения о подарке) оскорбился – и сегодняшнее ожидание сменилось обычной мстительной досадой.
Я по многу раз перебираю всякие грустные мелочи, бесповоротно доказывающие, как Леля ко мне переменилась, и это вечное сравнивание нашего начала и конца, прежде непереносимое, теперь меня задевает безбольно и, пожалуй, приятно. Но даже в то время – при Леле, – когда впервые грустная перемена мною была обнаружена и поражала еще по-свежему и болезненно, я нарочно прибегал всё к новым упорным проверкам, часто насильственным и неловким – не ради надежды, не из желания лишний раз убедиться в дурном для себя конце, а для какой-то печальной и мне необходимой внутренней усмешки, из которой и вышло теперешнее, приятно задевающее вечное сравнивание. Однажды в плохую минуту, неожиданно ломая предыдущий наш разговор и заранее уверенный в провале, я попросил Лелю зашить потемневшую старую мою перчатку. Как я и предвидел, она удивилась и полураздраженно ответила: «Ваша консьержка это сделает гораздо лучше меня» – и было нетрудно разобрать в раздраженном ее отказе также отказ от милой заботливости, недумание обо мне, а главное (отчего я вспыхнул), именно к моей перчатке смутную брезгливую неприязнь. Я вспомнил наш первый совместный день, свое восхищение ловкой ее работой и трогательной услужливостью, и вот, произведя намеренно-разрушительный опыт, навсегда это восхищение отравил.
Еще болезненнее меня поражало (и теперь особенно сладко припоминается) упрямое Лелино старание уклоняться от моих услуг: насколько раньше она гордилась влюбленным, невольно-рыцарственным моим благородством, настолько это же самое ей казалось потом утомительно-ненужным («Вы всегда делаете лишние вещи» – когда я, некурящий, протягивал папиросы в желтой обертке, на всякий случай для нее приготовленные) и, быть может, ее раздражало, что услужлив не кто-либо другой.
Леля противилась, как могла, нашей прежней взаимной внимательности и, чтобы ее исключить, сделать законно-невозможной, не оставалась со мною вдвоем, и это ее избавляло – не от самой ответственности (которая по существу исчезла уже давно), а от всего, для нее тягостного, о чем я уже писал – от необходимости отвечать, от упрекающих и настойчивых моих вопросов, и я опять поневоле сравнивал, как раньше она стремилась непременно побыть вдвоем, считала посторонних врагами и дорожила, краснея от удовольствия, всяким признанием безукоризненной ее ко мне деликатности, внимания и доброты. Она не могла бы в тот первый месяц обрадоваться Бобке Вильчевскому, с ним сдружиться, часто видеться с разными нелепыми, недостойными ее людьми и разочарованно, зло молчать, если неудавшееся свидание или плохо исполненное мной поручение нас принуждало целый вечер провести вдвоем. Я хотя и боялся гневной Лелиной проницательности, однако научился довольно ловко запутывать ее желания и перелагать вину на других (телефон – непрерывно занят, Вильчевские куда-то ушли, не стоит Бобку приглашать – с ним сегодня его дама), и мне иногда было жалко обманутой Лелиной доверчивости, но чему угодно я предпочитал эту сомнительную (из-за боязни отпора) и почти не использованную возможность наших редких уединенных встреч – объясняться, спрашивать, требовать, мучить и самому мучиться от безответных своих упреков.