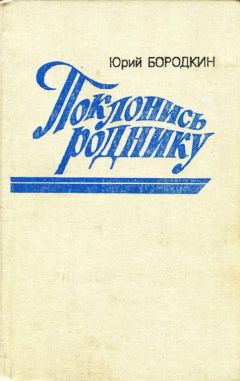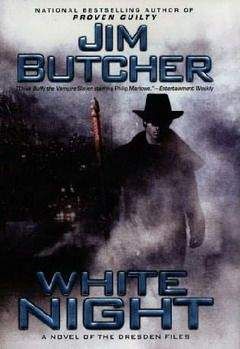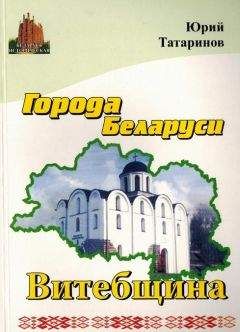Юрий Бородкин - Кологривский волок
Да, тут медведь — прокурор: смотри в оба, не плошай. Серега тоже изрядно струхнул. К костру неторопливой развалкой подошел рябой широколицый мужик в шапке-ушанке (уши были не завязаны наверху, а скатаны валиками за отворот). Бросилась в глаза длиннорукость: запястья торчали на четверть из рукавов, потертое суконное полупальто сидело на нем тесно, и сразу подумалось, что шито оно не ему, а галифе вспухли и обвисли к коленкам. Окинул всех взглядом, продудел, как в трубу:
— Покурить найдется?
Серега подал коробку с табаком, бумага у мужика нашлась своя.
— Ночевать встали?
— Лошадь приморилась.
— Далеко ли едете?
— Больно любопытный. Куда надо, туда и едем, — отозвалась Лизавета и как бы между прочим добавила, имея в виду Катерину: — Колюха-то, видать, уснул.
— Смотри ты, как засекретились! — Мужик хмыкнул, мотнув головой, и, моргая от дыма, стал греть над костром большие красные ладони. — Уже холодом пахнет, зима вот-вот.
— Сам-то отколь будешь?
— А тут, из ближней деревни, — показал рукой в попутную сторону.
«Врет ведь, наверно», — придирчиво отметил про себя Серега. Мужик между тем увидел подоткнутую под ось жердь, по-хозяйски прошелся вокруг подводы и Карьку похлопал по шее.
— Без колеса, конечно, какая езда, — рассуждал он, попыхивая цигаркой. — Колюха ваш пьяный, что ли, головы не поднимает? — Видимо, догадался, что перед ним женщина, бесцеремонно пощекотал Катерину, та взвизгнула, привскочила:
— Ну, какого черта надо?
— Ух, ты-ы! — опешил он. — Вот это представление! Пустила бы под бочок. Чего мешок-то придавила? Не бойсь, не отниму, — и мешок потискал ухватистой пятерней. — Однако, богатые вы, с овсом ездите.
— А ну, не лапай! Башку раскрою!
Серега схватил длинную головню, замахнулся, высоко поднятая на ветру, она взялась нервным огнем, взметывая искры, и всем сделалось жутко в этот момент, но на лице мужика не дрогнул ни один мускул.
— Горячий хлопец, — сказал он спокойно, с глухой хрипотцой в голосе. — Только на каждого прохожего кидаться с колом не следует.
— Закурил и проваливай!
— И на том спасибо.
Спрятав руки в обтянутые карманы полупальто, мужик ушел в темноту, слышно было, как по мостику через речку ботали его сапоги. Катерина стояла возле телеги побледневшая, простоволосая; тетка Лизавета уставилась в огонь и, размышляя вслух, сказала:
— Напрасно, Серега, ты кинулся на него, теперь подкараулит нас, тогда берегись! Я дак ни жива ни мертва сижу, пропали, думаю.
— Может, не один он, — заметила Катерина.
— И наплевать! Что мы, ночевать тут должны? Я вот топор возьму, пускай сунется, — храбрился Серега.
— Давай костер погасим, а то еще кого-нибудь принесет нелегкая, — посоветовала Лизавета.
Затоптали головешки, молча выехали на дорогу. Глаза постепенно привыкли к темноте, можно было различить густой вал прибрежного кустарника, потому что вызвездило и небо приблизилось к самым макушкам елей. Вслушивались в каждый шорох, страх сжимал, было такое напряженное ощущение, точно приближались к пропасти, и, когда впереди вдруг проклюнулся огонек, означавший последнюю деревню на пути к дому, стали с надеждой всматриваться в него, боялись, что погаснет он прежде, чем успеют доехать.
Светилось окно во второй от заулка избе. Остановились около нее, на стук вышла хозяйка, пробурчала за дверью:
— Нельзя огня вздуть. Кто там?
— Шумилинские. Из Кологрива едем, колесо сломалось у телеги.
Пустила. Серега вошел в избу — и хоть обратно беги: сидит на лавке, вытянув босые ноги с желтыми бугристыми ногтями, мужик, с которым только что распрощались! С веселым озорством глянул на Серегу и зашелся каким-то беззвучным смехом.
— Ну что, герой, не ожидал такой встречи? Проходите, нечего в кути торчать, садитесь за стол, пока картошка не остыла.
Чугунок с картошкой зазывно дымился посреди стола.
— Нам бы колесо раздобыть.
— А вон бригадир, спрашивайте у него, — показала на мужа хозяйка, высокая, плоскогрудая баба с продавившимися черными подглазинами.
— Колесо найдется. Куда торопитесь? Садитесь, — снова пригласил он.
Когда измотаешься и продрогнешь в осеннюю бездорожицу, нет ничего милее горячей картошки в мундире. Серега чистил ее, обдувая пальцы, и торопливо глотал, как бы украдкой от хозяина: стыдно было взглянуть ему в лицо. С печки с выжидающим любопытством наблюдали две девчушки, такие же конопатые, как отец; угостить их было нечем, хорошо, Катерина догадалась дать по горсти тыквенных семечек. И в зыбке требовательно закряхтел, заплакал ребенок, может быть, почувствовав запах еды; мать подала ему вместо соски тряпочку с жеваным хлебом. Умолк.
— Такой крикун родился, просто спасу нет! Поспать не даст. За день-то так натопаешься, с бабами десять раз поругаешься: как вернули меня с фронта, так и командую здесь ими, у себя в Завражье, — посетовал хозяин.
Теперь, сидя за столом, Серега рассмотрел, что лицо у мужика было добродушное, большеротое, мелкие морщинки рябили открытый лоб, паутиной тянулись к туманным от усталости глазам.
— Спасибо за хлеб-соль хозяйке и хозяину, — поблагодарила Лизавета, Отряхивая в ладонь крошки со стола. — Ну и напугал ты нас давеча, я даже животом ослабла.
— Слышь, Мань? Думали, грабитель я какой-нибудь, этот приятель едва головешкой меня не причастил, — пояснил мужик жене, которая, сидя в полутемном углу, покачивала зыбку.
— Мало тебе, валандаешься где-то до ночи. Мог бы и пораньше прийти.
— Ладно, бабы, вы отдохните пока, на печке погрейтесь, а мы на конюшню сходим, — позвал хозяин Серегу.
Принесли колесо, поставили на телегу.
— Меня однажды выручил колесом ваш шумилинский кузнец, так что, можно сказать, долг возвращаю.
— Это дедушка мой, Карпухин Яков Иванович, — обрадовался Серега.
— Ну-у! — изумился мужик. — Расскажешь ему, как познакомился со мной. Селиванов моя фамилия.
— Умер он недавно.
— Жаль старика. А у нас тоже второй год нет кузнеца, подойдет посевная — хоть караул кричи.
Когда вернулись в избу, все спали, кроме тетки Лизаветы, она кемарила за столом, положив голову на полушалок. Катерина лежала на лавке, свет керосинки слабо освещал ее лицо.
— Поедем, что ли? — спросила Лизавета.
— С часок подремлем, — ответил Серега, не желая будить Катерину.
Он растянулся прямо в фуфайке на полу, и тотчас понесло его в мягкую сонную зыбь, как будто под ним была перина. Видимо, и Лизавету сморил сон, потому что проспали бы до утра, если бы не разбудил завозившийся ребенок. Коптилка погасла, в потных окнах чуть заметно брезжило. Селиванов сладко храпел, свесив с кровати до самого полу руку со вздутыми венами; Сереге хотелось извиниться перед ним, поблагодарить, но не стал беспокоить, попросил у хозяйки лукошко и насыпал овса.
На улице холодно, тускло белеют в темноте тронутые инеем крыши, звезды догорают, заря еще не поднялась, лишь слабо проступила над лесом зеленоватая кромка неба; на другом краю заполья — непроглядная ночь, оттуда потягивает колкий ветер, будто бы совсем рядом набухает снеговая туча. Мелкие лужицы пробрало ледком, стеклянно крошится он под копытами Карьки.
Опять замуровал дорогу лес, теперь он не кончится до самого Шумилина — десять километров ехать волоком. Телега притряхивалась, стучала колесами по корням деревьев; шли пешком, бабы поотстали от Сереги, тетка Лизавета пыхтела, едва поспевая в шаг с Катериной.
— На телегу теперь боязно садиться, хоть бы рассветало поскорей, — говорила она. — Вернешься домой, а там делов всяких накопилось. Тебе, Катюшка, позавидуешь: лошадь распрягла — и на боковую.
— Позавидуешь! Ступай в пустую-то избу! — едко ответила Катерина и, помолчав некоторое время, добавила с решимостью, ошеломившей Серегу: — Уеду я скоро отсюда.
— В город, что ли, опять?
— Нет, поближе.
— Я думала, в город, дак там нынче житуха посолоней нашей, — рассудила Лизавета. — Куда все-таки? Секрет?
— Пока секрет.
— Догадываюсь немного.
Дальше разговор перешел на шепот, Серега не мог ничего расслышать. «Догадываюсь!» О чем это она? Почему вдруг Катерина надумала уезжать? Может быть, сгоряча, от Усталости и дорожного отчаяния вырвались у ней такие слова? Не разгадать этих вопросов.
Серега завалился в телегу, пихнув под голову полегчавший мешок, стал смотреть в небо с какой-то затаенной неподвижностью; редкие звезды зыбкими слезинками еще тлели в его нескончаемой глубине; было странное ощущение, будто бы он превратился в невидимку, а самому, наоборот, прибавилось зрения, и казались постижимыми вечные, неразгаданные тайны далеких миров, где, наверно, тоже была жизнь со своими заботами и страданиями. Нечто похожее пришлось испытать Сереге в детстве, когда мать несправедливо нахлестала его вожжами и он убежал из дому, спрятался, забравшись на высокую елку, что росла за гумном, и просидел там до темноты: вся деревня была на виду, а его никто не мог заметить. Где-то внизу плутал ищущий голос матери, но он не откликался, обида его сменилась торжествующим чувством; рядом перемигивались звезды, представлялось, что они ближе к нему, чем к другим людям.