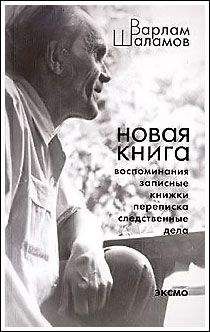Варлам Шаламов - Четвертая Вологда
Я ждал, разумеется, одобрительного приговора, но приговор Ширяева был неодобрительный.
Более всего меня поразил разбор этого стихотворения, сделанный тут же:
– По-русски надо писать:
Вот в столбах пыли извиваясь,
Кавалерия неслась.
В этом роде, отвергая начисто пушкинскую инверсию и даже более элементарные вещи.
Я со страхом увидел и услышал, что наш преподаватель литературы, как и мой отец, вовсе не понимает, не «слышит» стихов.
Отзыв Ширяева – мне было тогда восемь лет, – разумеется, упрочил мнение о моем графоманстве.
Через все мое детство, через все мои вечера проходит крик отца:
– Брось читать!
– Положи книгу!
– Туши свет!
Лампа у нас была одна, но речь тут шла не о лампе, а о свете в его самом высоком значении. По мысли отца, далеко не всякая книга полезна, а беллетристика и стихи определенно вредное чтение.
Мать заботилась о керосине в смысле физического света, отец же разумел свет духовный.
Ссоры отца с архиереями – притча во языцех в городе – все дальше толкали нашу семью в сторону дружбы с политическими ссыльными.
В доме бывали эсеры, меньшевики из ссыльных. Семья Виноградова, где мне разрешили бывать, – как раз семья ссыльного меньшевика, обосновавшегося в Вологде. Алексей Михайлович Виноградов был присяжный поверенный.[17]
В это время началась первая мировая война. Война изменила положение отца в глазах и светского, и духовного начальства, точно так же, как изменила положение всех ссыльных «оборонцев» от Керенского до Плеханова и Мартова, от Кропоткина до Лопатина, от Савинкова до Николая Морозова.
Во время войны тиран сближается с народом – это свидетельство истории. Не было исключения и в войну 1914 года.
Ораторская энергия отца, которому было тогда всего 46 лет, нашла выход в бешеной прямо-таки военной пропаганде. Отец, конечно, немедленно попросился на фронт, в Действующую армию, на «театр военных действий», как это официально тогда называлось, – но, получив отказ из-за многосемейности, сейчас же послал старшего сына, моего брата Валерия, в офицерское училище, сорвав ему высшее образование, хотя брат никакого патриотизма не обнаруживал.
Неудачу армии Самсонова отец переживал как свой личный позор.
Вступление немцев в Бельгию, Реймс и бомбардировка Роттердама – все это соответствующим образом комментировалось отцом и публично – во время служб, панихид, и дома – за чайным столом. Отец каждый день читал газеты – «Русские ведомости» и «Вологодский листок» – о чем, о чем, а о немецких зверствах наша семья была осведомлена более чем достаточно…
Галоши – великая вещь в русской провинции с ее вековой липкой грязью, глинистой грязью, облизывающей сапоги, распутицей, разрушающей обувь.
В 1956 году в Озерках, после Колымы, после многих лет сухой горной устойчивой почвы, несмотря на всю ее гибельность, я видел, как родители носят детей в школу на руках круглое лето, чавкая резиновыми сапогами, и только в крайнюю жару трещины и провалы поселка превращаются в гигантские впадины, похожие на калифорнийские каньоны, и становятся доступны пешеходу.
Вологда любого, в том числе и семнадцатого года, была такой же опасной, грязной, засасывающей, как и среднерусские тверские Озерки. Жить в городе нельзя было без галош, которые в Вологде почему-то назывались «калоши» и в устной, и в письменной транскрипции, и только в Москве я с трудом отучил себя от вологодского произношения сего важного предмета.
Существовало даже выражение «поповские галоши» – глухие, с пряжками – того самого фасона, что в Москве пятидесятых годов был модой. Потом уже пошли галоши на «молнии».
Все городское священство носило как бы форменные, глубокие теплые галоши на застежке. Но отец не носил поповских галош, он подчеркнуто шлепал по грязи в светских, коротких, блестящих галошах.
В раннем детстве я гляделся в отцовские галоши, как в зеркало. Светлые, блестящие, новенькие отцовские галоши всегда стояли в передней. Разумеется, дети подрастали, им покупались галоши такие же, новые.
Свою же столь стеснительную обувь я ненавидел. Но правила вологодские требовали галош.
Поэтому одно из воспоминаний связано, сцеплено с сияющим ясным днем, солнцем, заливающим все тротуары и особенно ярко играющим на двух парах галош – отцовских и моих.
Февральская революция начинается для меня с блеска галош.
Февральская революция встречена была в городе восторженно. В ясное голубое утро началась в Вологде манифестация – так это тогда называлось.
Отец взял меня с собой, твердя: «Ты должен запомнить этот день навсегда», – и вывел меня на городскую улицу. Оба мы, сняв шапки, шли к городской Думе. Туда же со всех сторон города текли ряды людей с красными бантами, снявших шапки, взявшихся за руки. Все пели. Пели разные песни – каждая колонна свою, но главными были: «Смело, товарищи, в ногу», «Отречемся от старого мира», «Вы жертвою пали» и «Вставай, проклятьем заклейменный».
Было слышно и видно, что текст любой песни еще не заучен всеми на память. Песня рвалась и продолжалась снова. В семьях города и городских школах учили эти песни наизусть, переписывая друг у друга слова.
Но уже через несколько дней в Вологду был привезен из Петрограда выпущенный каким-то энергичным издателем целый песенник революционных песен. Песенник на газетной бумаге, в белой обложке, с краткой надписью «Гимн свободы». Там были тексты всех песен революции, вплоть до анархического гимна «Черное знамя», «Вставайте же, братья, под громы ударов…». Открывался сборник «Марсельезой» – «Отречемся от старого мира…».
Был там и «Интернационал», амфитеатровская «Дубинушка» и «Утес Стеньки Разина» Навроцкого заняли свое законное популярное место.
Но во время манифестации пели неуверенно, завидуя тем, кто по счастливой случайности или семейным обстоятельствам знал все слова.
Полиции не было – движением управляла новая молодая вологодская милиция с красными повязками на рукавах.
– Звездани его! – советовал товарищам какой-то милиционер, пользуясь вологодским глаголом.
Поющая толпа плыла к городской Думе, где на балконе стояли люди, которых я не знал, но городу они были известны.
Мы с отцом пошли к нашей гимназии. Около гимназии была толпа, а с фронтона гимназии старшеклассник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного двуглавого орла. Чугунный орел был велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда.
Наконец это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега. Мы двинулись дальше, а отец твердил что-то о великой минуте России.
Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов.
Для России рубеж свержения самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем дальнейшие события.
Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был – верилось – конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество было расколото на две половины – черную и красную. И история времени так же – до и после.
Февральская революция была в Вологде праздником, событием чрезвычайным. В русском обществе водораздел сил шел именно по трещине, щели, линии свержения самодержавия. К длинному плечу этого рычага второго рода было приложено множество сил.
Февральская революция была народной революцией, стихийной революцией в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова.
Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге – их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны.
Для того чтобы раскачать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование.
Героизм должен быть безымянным. История не сохранила имен тех людей, кто взорвал дачу Столыпина, а ведь чтобы искать такие имена, открыть архивы, нужна революция.
Люди эти, столько раз менявшие фамилии, что нет никаких надежд напасть на их след, как, впрочем, они хотели и сами.
Разве мы подробно знаем о Тетерке? Об Ошаниной? О Климовой? О Клеточникове?.[18]
Ошанина и Климова в галерее русских женщин более значительны, чем прославленная Перовская или некрасовские героини.
Февральская революция была точкой приложения абсолютно всех общественных сил, от трибуны Государственной думы до террористического подполья и до анархических кружков.
И, конечно, в первых рядах жертв, борцов шла русская интеллигенция. В этой борьбе было всякому место: профессору и священнику, кузнецу и паровозному машинисту, крестьянину и аристократу, либеральному министру и колоднику-арестанту. Каждый старался вложить все свои силы. Это было моральным кодексом времени – встречать репрессии царского правительства с мужеством. Эти репрессии более всего касались партии эсеров, которая неожиданно стала партией миллионов.