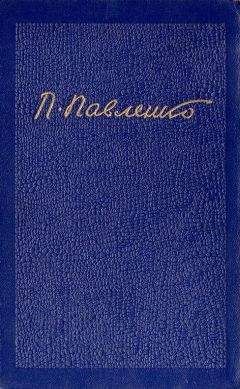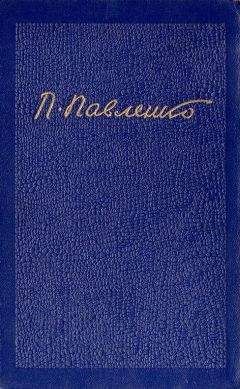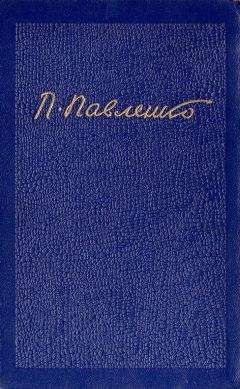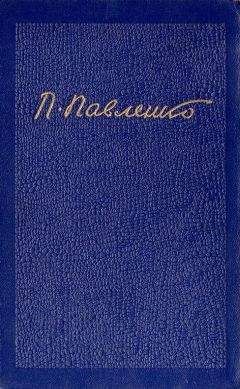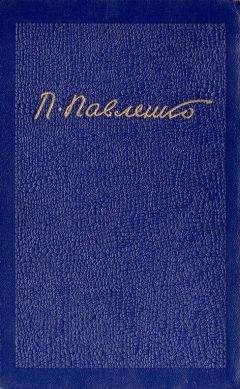Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 1
Женщина в пестром китайском халате, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали ее худые и неровные ноги, пробежала, неся на подносе гору молотого кофе. Кипяток в прачечной уже был готов.
— Ну, подходите, кто там! — кричала старуха с произвесткованными глазами.
Пронизав своим свистом шум разговоров и беготни, на дворе вспорхнула потерявшая быстроту пуля. Другая ринулась вниз от крыши и завизжала, барахтаясь в водопроводной раковине.
С площади поднялась туча дыма.
— Марсельезу!
— Музыку!
— Барышня, барышня!
— Вперед! Выше сердца!
Когда стихла стрельба, на площади наступило господство того ландшафта, который в искусстве зовется батальным. Предметы и люди приобрели воинственность, застывшую, как судорога. Раненые, истошно крича, шли и ползли еще в том направлении, в каком наступали, и бойцы оставались в настороженных позициях. Парил ствол пушки. Негры, собравшись в кружок и подпрыгивая на месте, пели:
Раззл, даззл, хэббл, доббл!
Сис! Бум! А!
Викторина! Викторина!
Ра! Ра! Ра!
Но, внося атмосферу мирного цинизма, уже сидел на лафете пушки комиссар местной мэрии и переписывал пленных. Он выспрашивал сведения, при помощи которых тут же расшифровывал социальную философию боя, так как с блестящей ловкостью срывал маски военного безличия и безответственности с молодых торговцев и чиновников, одетых в мундиры.
За спиной мэра высокий худой блондин заполнял рисунком альбом. Буиссон обрадованно заглянул через его плечо и, не церемонясь, заметил:
— Лучше загляните внутрь пролома, там такие дела…
Не поворачиваясь и не поднимая глаз, белокурый ответил вопросом:
— Вы сами оттуда? Хорошие сцены?
— Оттуда. У вас замечательная рука. Я ведь сам тоже художник.
— Вот как? Впрочем, я — то не профессионал. Я офицер. И гость у вас.
Они пожали друг другу руки, назвав свои имена.
Белокурый красавец был поляк Генрих Гродзенский, с которым надолго жизнь связала Буиссона. Они вернулись в дом, занятый батальоном Бигу.
У котла прачечной, где полчаса назад варили кофе, теперь хозяйствовал врач. Китаец с лиловыми морщинистыми губами вычеркивал из своей книги пачку белья за пачкой. Марая кровью листы книги, доктор, не глядя, расписывался в получении белья.
Раненых уже разложили рядами во дворе. Толпа женщин окружала их шумом сожалений. Изнемогая от напряжения, из дальней квартиры в углу неслась марсельеза. Она слилась с воздухом и не ощущалась как музыка.
Буиссон, проходя, крикнул в окно:
— Все кончено! Все хорошо!
Воздух смолк. В комнате, обрамлявшей последнюю дыру, равнодушно переодевалась женщина. Лежащий на диване раненый федерат[18] изумленно и ласково глядел на нее глазами, с которых еще не сошла боль.
Буиссон и Гродзенский перешагнули второй пролом и очутились в столовой судьи.
— Гениальная штука, — сказал им судья. — Гениальная штука этот пролом. Гальяр будет страшно доволен выдумкой.
— Кто это Гальяр? — спросил поляк.
— Это наш баррикадный фельдмаршал, — объяснил Буиссон, улыбнувшись, так как сейчас же представил чернобородое кривощекое лицо папаши Гальяра, его приземистую фигуру с короткими руками, пальцы которых и посейчас были черны от ваксы и смолы его прежней сапожной мастерской.
— Он строит баррикады, как сапожник, я сказал бы, если б можно было данной фразой характеризовать его работу, как добросовестную до щепетильности, — сказал судья. — Честное слово, он их так подбивает и подшивает, будто им существовать десяток лет.
Тут же он вспомнил еще безумца Керкози, гения баррикадной войны, и не без иронии рассказал о двух его проектах обороны Парижа, только что рассмотренных и отвергнутых Военной комиссией.
— Главнейший материал, из которого строятся укрепления, — люди, — утверждает этот Керкози. — Париж должен быть защищен во имя идеи, но отнюдь не для того, чтобы сохранить жизнь нескольким миллионам человек. У него, понимаете, простейше все рассчитано…
В это время переодевшаяся дама заглянула в дыру.
— Гражданин комендант, здесь умирают, — сказала она.
— Там умирают? — спросил судья, кивнув на стену.
Буиссон вдруг почувствовал страшную ответственность перед людьми этих вскрытых и ныне связанных вместе коробок, нежность и близость к ним. Всего каких-нибудь два часа назад жизнь лежала в доме разрозненными, наглухо отделенными друг от друга пакетами, а сейчас сквозняк с площади враз продувал восемь таких пакетов, мешая их запахи.
Отвечая своим скрытым мыслям, судья повторил:
— Необычайно удобны для нас эти проломы. Какой тыл, а! — Он быстро встал и сказал Буиссону: — Я возьму на себя функции гражданского комиссара. — Накинул разлетайку. — Жанна, я сейчас вернусь.
Просунул голову в комнату неизвестной женщины.
— Это у вас умирают? Простите, мы столько лет живем рядом и незнакомы. Я судья Фальк. Это у вас несчастье?
Когда Буиссон и поляк, выйдя из дома в тупичок, куда на рассвете фонарщик стаскивал раненых, добрались до площади, их остановил Бигу.
Покачав головой не то с выражением недоумения, не то как бы сожалея, он мрачно произнес:
— Мы стали воевать, как тараканы, — что вы скажете! — в домовых щелях.
И крепко пожал Буиссону локоть.
— А вы хорошо сделали утро. Хорошо. Про вас все говорят.
— Это я его вытащил, — сказал подошедший фонарщик. — Смотрю, падает. Я их человек десять повынес…
— Вот что, — перебил фонарщика Бигу и обратился к Буиссону: — Вы, я слышал, туда-сюда, на всех языках оборачиваетесь.
— На трех.
— Вот и хорошо. Мы тут с Лефевром решили послезавтра сойтись вечерком, отпраздновать. Вы приходите. Позовем человек двадцать самых дельных ребят каждой масти. Гражданин наш? — кивнул он глазами на Гродненского. — И вы тоже заходите, поговорим.
Уходя, он обернулся и крикнул фонарщику:
— А ты зацепись за кого-нибудь и — тоже валяй!
— Ладно, — сказал фонарщик, — не маленький, цепляться нечего, доберусь.
Площадь снова стала другой. Запоздалая воинственность давно была смята обычным течением дел, на стенах домов, поблескивая свежей краской, ползло наспех выведенное: «Выше сердца!» День набросился на площадь и играл ее видом, как кот с обомлевшей мышью. Пробираясь сквозь толпы зевак, громыхали омнибусы. Раненые требовали санитарных линеек и говорили до обмороков. Зеленщиков куда-то еще не пускали, и они сбились в кучу пахучим обозом тележек и тачек. У человека украли пальто. Он стоял в стороне ото всех и плакал. Лицо его было старым и очень измученным.
— Вы куда? — спросил Буиссона поляк.
— Не знаю. После этого утра мне некуда как-то итти. Все, что я видел… я не знаю, как вам сказать…
И, словно понимая, что имеет в виду Буиссон, поляк очертил рукой воздух, коснувшись площади, толпы на ней, пролома, деревьев бульвара с общипанными кронами.
— Этой картины никогда не написать, — сказал он. — Это не в средствах искусства.
Буиссон улыбнулся в ответ.
— У той певицы… — сказал он. — Ах, да, вы с нами не были. Словом, у одной певицы сегодня стащили ноты ее вечернего концерта. Я написал ей записку: «Квартира гражданки Рош служила резервной линией укреплений в бою с версальцами». «Это совершенно неуважительная причина, — сказала она мне, — записка никак не объясняет аварии нотной тетради, дорогой комендант».
— Где она выступает? — спросил поляк. — Это занятно. Актриса, или так?
— В «Жимназ», кажется, — ответил Буиссон. — А картину окопов, проходящих сквозь быт, все-таки написать можно, — добавил он.
— Не на холсте и не кистью, — ответил поляк.
— Выразить в мраморе, в бронзе, показать в музыке, не все ли равно…
— Сражение, в котором хозяйки под пулями разжигают очаги, а старухи бранятся, кому убирать общую уборную… сражение, в котором принимает участие все… нет, это выше искусства.
Они еще поговорили немного на эту же тему и разошлись, условившись обязательно встретиться у Бигу. Вспоминая потом эту первую встречу с Гродзенским, Буиссон именно к ней относил все разговоры о живописи и вообще об искусстве, которые им случалось вести. На деле было не так, да он и сам это знал, но, помня все мелочи дальнейших их встреч — в апреле и в мае, лишь этой придавал он характер беседы об искусстве в условиях революции. Впрочем, к этому обманному убеждению он пришел значительно позже, когда семидесятый день Коммуны казался ему последним днем человечества и когда, не рассчитывая спасти жизнь, он украдкой рассовывал свои лучшие мысли по мозгам случайно окружавших его людей. Ему казалось, что, разобрав по одной — по две мысли, эти люди потом где-то соединятся и восстановят цельность имущества его духа. Но это все было позже.