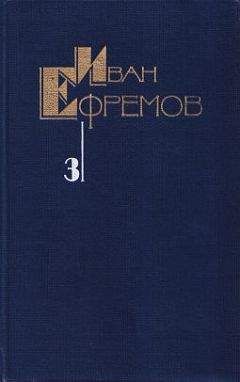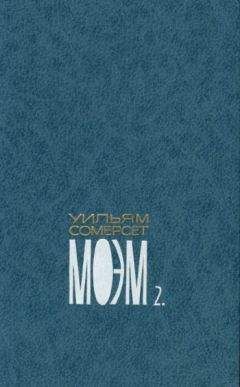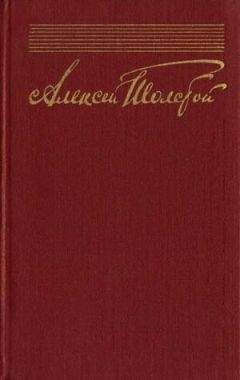Гавриил Троепольский - Собрание сочинений в трех томах. Том 2.
После смерти матери отец стал ласков к Зинаиде. Хотя эта ласка была суровой, как и он сам, но она чувствовала, что в отце большая перемена, другим становится. Ждала, старалась помирить их с Федором, надеялась на ладную жизнь. И вдруг сразу: убит! Все кончилось.
…Когда Федор пришел с собрания, Зинаида стояла посреди избы и неподвижно смотрела куда-то перед собой. Внутри у нее тягостная, знобящая боль. И казалось ей, что изба наполнялась мощными и мучительно тоскливыми звуками. Она заломила руки так, что хрустнули пальцы, и прошептала:
— Папаша! Федя! Мои родные!
Федор подошел к ней, положил руки на плечо и ласково сказал:
— Зина… Плохо тебе?.. Зина!
Она молчала.
— Поезжай в город. На фабрику устроишься, легче будет.
Молчала Зинаида.
Федор видел — недоброе творится с ней. Жаль сестру — пропадает. Он сел на лавку и сказал:
— Поди погуляй. На речке молодежь. Поют. Сходи, Зина, сходи.
Она низко опустила голову и тихо пошла к двери. Федор посмотрел ей вслед и закрыл лицо ладонями.
А весна разгуливается все больше. Вода бежит, спешит, журчит, позванивает. Земля парит, дышит. Вторит этому дыханию и Паховка. Дрянненькое это селишко: избушки — из глины да соломы, леса нет на десять верст кругом, поля, да равнины, да буераки глубокие. Но зато есть речка Лань — маленькая, вилючая, быстрая; бежит она в крутых бережках, вечно беспокойная и неунывающая. А в половодье все веселье на речке. И тогда берега ее полны народа: там и молодежь, и старики, и дети — всем хорошо смотреть на весеннюю воду. В тот памятный для села день на реке много было молодежи, много радости и веселья, так много, что, казалось, не вода разлилась, а звуки песен и смеха дрожат мелкой рябью. Шумит водичка, шелестят малюсенькие льдинки, стучат друг о друга, спешат-спешат, толкаются, беспокойные. Шумит и молодежь — поет, балагурит, топочет каблуками.
Над кручей «разрезала дух» балалайка, а он и она выхаживали «барыню». Помаленьку все стянулись к плясунам.
— Ух ты! Смотри: Анютка-Змей пошла плясать! — .крикнул кто-то. — Бежим туда!
— А с ней кто?
— Володька Красавица, браток ее.
— Эти сделают на горе́ грязь.
А Змей под дробь каблуков припевала:
Я любила, я любила
Все четыре месяца —
Январь, февраль, март, апрель,
Теперь хочу повеситься.
— Наддай! — слышались одобрительные голоса. — Володька! Дай!
— Ух, ух, ух! — разламывался, разминался Володя Кочетов, выхаживая перед Анюткой.
А та притопывала и задорно вызывала его, выговаривая в такт:
Двух любила —
Ваньку, Степку.
Мать узнала —
Дала трепку!
— Тра-та-та! Тра-та-та! — затараторил Володя и сквозь дробь бросил частушку:
У Сычева три коровы,
Три лошадки, три свиньи:
На кулацкую дорогу
Его черти занесли!
Частушки в такт «барыне» сыпались беспрерывно. Плясали поочередно и не переставая: умеешь — не умеешь, а очередь подошла — выходи.
Несколько парней гурьбой приближались к плясунам. Один из них, Ваня Крючков, затянул:
Как родная меня мать
Провожа-ала-а!
Другие подхватили:
Как тут вся моя семья набежала-а-а…
Голос Вани выделялся из всех. Хороший голос! Далеко отдавался гомон людской, эхом летели по речке выкрики и песни и где-то там сливались с водой, будто вместе с нею убегали туда, где еще теплее, где в море широком незаметны капельки Лани. Молодежь радовалась весне, воде, радовалась друг другу. Юность никогда нельзя поместить в берега, как речку: все равно где-то прорвет и берег.
А на излучине реки, где стояло несколько больших ветел, сидела Зинаида и неподвижно смотрела на разлив. До нее с берега доносились звуки бурного веселья, и от этого еще тоскливее становилось на душе… И вот она сначала тихо-тихо, потом громче и громче запела:
Не брани меня, родная,
Что я так люблю его,
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без него.
Бархатный, сильный, полный горечи и тоски голос плыл по воде, дрожал в воздухе и замирал где-то далеко-далеко.
И всем-то эта песня была знакома, но так ее никто не мог петь душевно, проникновенно, как Зинаида. На берегу услышали песню. Остановилась пляска, прекратились частушки, замолчала, смутившись, гармонь.
А Зинаида пела. Она вспоминала мать, жалела Федора, тосковала об отце, мучилась безысходностью горя. Перед глазами, затуманенными слезами, стоял Андрей, как живой. Стоит, смотрит на воду и не замечает Зинаиду. В тот опьяняющий весенний день она смутно сознавала, что это мираж, но… он стоял и не замечал. И жизнь показалась ей пропащей и никому не нужной. Выхода не было.
Зинаида не слышала и не видела, как Матвей Сорокин пробежал к молодежи, запыхавшись, бежал без шапки. Все произошло без нее.
Матвей еще издали, увидев Ваню Крючкова, кричал:
— Беда-а! Беда!
Ваня побежал ему навстречу. Ребята — за ним. Все забыли про Зинаиду и уже не слышали ее песни.
— Идут! — кричал Матвей. — Ваня, идут! Федю бить идут. Скорей! Ребятушки, скорей!
Все бросились бежать к Федоровой избе.
Берег опустел.
Только одна Зинаида осталась под ветлами. Она пела, обхватив руками колени, не замечая ничего вокруг:
Мне не надобны наряды
И богатство всей земли…
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное зажгли…
И плыла ее песня, наполняя все вокруг тоской и отчаянием, просила любви и ласки, жаловалась. Звуки песни донеслись и в село, но застряли в соломенных крышах и в рокоте толпы, ворчащей, чавкающей сапогами по навозной грязи, веками накопленной у надворья.
На бегу Ваня что-то кричал ребятам.
Но он не знал, что у избы Земляковых уже сгрудилась толпа.
Над селом висел гвалт. Около крыльца несколько мужиков напирали на милиционера, настойчиво выкрикивая:
— Узнать пришли! Не мешай!
— Народ сам знает, без тебя!
— Сторонись!
— Не могу! — старался перекричать милиционер. — Нельзя! Р-разойди-ись!
На крыльцо поднялся Сычев Семен и обратился к толпе:
— Товарищи! Пущай сам Федька покажет. Може, врут про яму. Поклеп-то на человека недолго навести. А може, и ямы нету никакой. Ежли есть яма, тогда другое дело. А може, ее нету!
— Пока-ажь!!! — завопили сразу несколько человек.
Вплотную к милиционеру приблизился Сычев и тихо ему сказал:
— Ты уходи, мил человек. Народ сейчас сурьезный: могут тебя того… Душевно говорю, жалеючи.
Милиционер растерялся. Толпа завыла:
— Сла-азь! Сла-а-а-а! А-а-а-а!
— Бей милицию! — орал Степка Ухарев.
Толпа хлынула к крыльцу. Милиционер подался в сени, оттуда — во двор и верхом — в волость. С крыльца уже командовал Сычев:
— Сперва, граждане, надо разобраться. Пущай закон решает.
— Как это закон?! — заорал Степка.
— Самого будем спрашивать? Аль как? — крикнул Сычев в толпу.
— Само-о-о-а-а!!! — рявкнула толпа.
Благожелатели Федора хотели, чтобы он рассказал сам. А врагам только того и надо было, чтобы он вышел из избы. Поэтому так дружно и рявкнули в ответ на вопрос Сычева.
Сычев скрылся в дверях. Он распахнул дверь в избу и сказал Федору, сидящему неподвижно за столом:
— Выходи. Народ требует.
Через минуту, не больше, вышел на крыльцо Федор.
Он — в одной рубахе, с расстегнутым воротом, без шапки, с цигаркой во рту.
Сразу в толпе стало тихо. Кто-то позади сказал шепотом:
— Господи!
Совсем тихо сказал, а всем слышно.
Федор повел глазами по толпе, выбросил цигарку и спросил:
— Вы чего собрались, товарищи? — А сам на Семена оглянулся.
Семен в него уперся взглядом. Опять встретились!
Федор повернулся снова к толпе и ровным, спокойным голосом сказал:
— Я расскажу всю правду… Промежду сарайчиками ямка накопана. То — я копал… Но только…
Сразу прорвалось. Никто не дослушал. Толпа хлынула во двор, наперла сотней тел. Смотреть яму! Плетень сбили, курник свалили. Вылетели куры. Кто-то оторвал голову курице и пустил пух над толпой. Передним видно яму, задним не видно — прут, теснятся, душатся. Кто-то крикнул:
— Пущай и сам идет!
— Нехай доскажет! — надрывался Виктор Шмотков. — Не может того быть! Пущай доскажет сам!
Над толпой повис рев Степки Ухарева:
— Убивца давай!!!
— Сторонись! — зычно гаркнул Сычев в ответ на рев Степки.
Расступились. Сычев шел впереди, за ним — Федор.
Федор стал спиной к ямке, лицом к толпе. Прямо перед ним — Степка Ухарь. Позади — Сычев.
Тишина жуткая.
Федор поднял руку и что-то хотел сказать, но вдруг его обожгла догадка: «Неужели кто-то подумал, что ямка эта для папашки готовилась?» Лицо его загорелось, в висках застучало: «Кто же, кто придумал такое?..» Неожиданно он резко повернулся лицом к Сычеву и дико закричал: