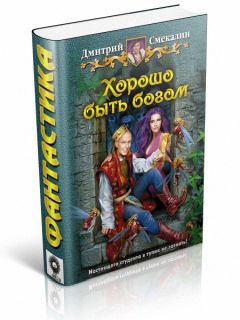Дмитрий Косырев - Продавец радости
— Превратили сок в шампанское? — интересуется девчонка.
Оказывается, она все еще здесь. Какое лицо: то ли насмешка, то ли ожидание…
— Да, — отвечаю тихим, низким голосом, улыбаясь чуть-чуть. — С завтрашнего вечера пьем шампанское. Тайно.
— Волшебник прилетел. В голубом вертолете, — радостно морщит она нос.
Лица в столовой. Лица, лица, лица. Уходящие вдаль ряды. Вдоль них тетки в белых фартуках с тоской катят двухэтажные тележки. Вот приближается наша; на верхней ее палубе стройными рядами торчат куриные крылья. Одни крылья. Повару тоже жить надо… Пока ползут тележки, мы, отдыхающие, украдкой либо открыто рассматриваем друг друга.
Грузинская молодежь. Цветник. Клипсы, браслеты, яркие ткани. Зубы сверкают, глаза огромные. У этих своя компания.
Московские девчонки… Давно замечал: на отдыхе женская половина — не половина, а две трети. Что с нами, мужиками, творится: не отдыхаем совсем, что ли? Игра в переглядки: поведешь глазами по ряду, натыкаешься на чей-нибудь взгляд — откровенно оценивающий, бросающий вызов. Глаза, глаза… Извините, не старайтесь.
А вообще, если о шампанском, могу себе позволить. За что боролись-то? За что весь год, как бобик, кассеты записывал и диски туда-сюда таскал по подземным переходам и метро?
За что?.. Купюры хрустят по карманам. Сейчас бы найти им работу. Но ведь лень. Песочек, море, все бесплатно. Сижу, тележка пятнадцать минут не едет — почти сторона диска. И не спешу. Отдых.
Смотрю по сторонам. Входят новые отдыхающие — почти у каждого в руке алеет помидор с рынка плюс пучок зелени. Лица с одинаково застывшим выражением скуки и спесивости, ни единой мысли, одеты в одинаковые цветастые рубашки или халатики — как из больницы, животы огромные, походка соответствующая. Эти из тех, кто всегда вслух всем недоволен, кто ездит на все идиотские экскурсии и снимается на фоне чего-нибудь: первый ряд лежит, второй стоит, лица застывшие и одинаковые. На фото сверху надпись: Сухуми, год такой-то. Одна такая парочка за моим столом.
Есть еще коренные обитатели дома отдыха — те, кто путевки не достают, а берут. В общем-то это моя публика, из них набираются мои клиенты. Посматриваю, нет ли знакомых. Правда, еще неизвестно, захотят ли знакомые общаться со мной, помимо станций метро.
Как и я с ними. Мне и так хорошо. Хотя, смешно сказать: хотелось бы с кем-нибудь поговорить от души, не скрываясь, — так ведь нету.
И вдруг у стены натыкаюсь на знакомую физиономию. Какие люди! Лично Юрчик. Как всегда, юн и бодр, одет во все цвета сливок — даже носки той же окраски. Может себе позволить. Мы, между собой. считаем Юрчика смертником: специализируется на валюте. Такие садятся быстро. Он, видно, тоже так думает: не живет парень, а горит, «Жигули» цвета сливок меняет одни за другими, и удивительно, что еще не врезался в какой-нибудь столб. Музыку он у меня записывает для своих гонок — смерть и ужас: супердиско, ревущие басы, сплошной визг синтезаторов. Не музыка, а адреналин. Волосы у него рыжие, живописной волной, нижняя губа чуть отвисшая, выражение лица возвышенное.
За его столиком три подружки, среди них моя партнерша по теннису.
Ну уж нет, Юрчик без нее обойдется. Не у Пронькиных. Пусть жрет тех двух.
Познакомился с журналистом. Тут это легко, от нечего делать. Забавный тип. Главная ценность его в том, что он знает мою теннисистку.
— Алена? Очень умненькая девочка, но вот как-то места себе не нашла. Сидит у нас в отделе писем. Бумажки…
Бумажки — и это все? Во второразрядной газете? И все? Для такой-то непоседы? С такими глазами, с такой складкой у губ? Ну, теперь кое-что ясно. А пока изучаем журналиста. Может, по ходу дела еще что-то расскажет.
Какой-то он пришибленный. Говорит нехотя, скрипя. Судя по всему, еще не понял, что отдыхает, видимо, еще переживает последнюю командировку куда-то там в Пёсьегонск.
Неясно говорит, что тамошнюю мафию газета не поколеблет: все повязаны одной веревочкой.
Что ж, бывает. У него еще есть иллюзии, что ли? Всегда удивлялся таким людям: считающим, что жизнь — это не то, что есть, а то, что должно быть. Вот он идет рядом со мной (мы следуем на местный рынок), переживает, бурчит с безнадежностью в голосе:
— Все видел, но такое… Куда ни ткни пальцем — везде нарушения. И ходишь, как по замкнутому кругу. Знали бы вы… Иногда приезжаешь из такой поездочки, и руки опускаются.
Видели мы это. Одно и то же: те, кого надо бы поднять на три ступени вверх, летят совсем, те, кто разваливали дело раньше, остаются и орут, что ведут перестройку, одиночки борются против всех…
Это все про, как его, Пёсьегонск.
— Знаю, еще не то знаю, — говорю я, озирая рынок. — А не ткнуть ли нам и тут пальцем? Может, и тут нарушения?
Вот что там?
— Киоск звукозаписи, — машет рукой журналист. — Это неинтересно. Мелочь. Хотя давайте посмотрим…
Чудес и случайностей, между прочим, не бывает. Я знал, куда был направлен мой палец. Еще не представлял, зачем мне этот киоск, но почему не вникнуть, как коллеги работают. Тем более если не сам, а через представителя, так сказать.
Характер мой суетливый…
А журналист уже стоит возле киоска, и глаза у него на лбу:
— За кассету — почти восемь рублей? А утвержденный прейскурант у вас есть?
— Это только за запись, а ведь еще стоимость самой кассеты, — тихо подсказываю я.
Надо знать, что такое южный киоск звукозаписи. В самых оживленных точках — на рынках, автобусных стоянках стоят маленькие будки, вроде тех, что для мороженого, они украшены подвешенными под коньком крыши динамиками, из темноты окошка виднеется неизменно усатая физиономия, динамики выплевывают обрывки мелодий на весь базар. Кашляют, замолкают и начинают играть что-то еще… Я, между прочим, смотрю на эти будки философски. Карикатура на меня и мою фирму.
Выглядывающий из черной внутренности киоска усатый шлет подальше потного, багроволицего журналиста.
Увидев редакционное удостоверение, медленно остывает. Швыряет на прилавок прейскурант и отворачивается. Журналист, к своему изумлению, узнает, что цена правильная. А как бы он удивился, узнав, что моя обычная цена ниже государственной. Ниже! Не говоря уж о качестве, которое всегда гарантируется. А коллекция, какой ни у кого нет?
— И какое же качество за такие деньги? — голосом исследователя произносит журналист.
— Посмотри. Если плохое, я эту кассету сейчас сам растопчу ногами, — начинает волноваться парень из черного окна. Его оскорбили в лучших чувствах.
Мы слушаем. Я вздыхаю: качество есть. И мне было бы не стыдно. Сейчас, сейчас он доберется до сути. Вот же она, суть. Безграмотные списки, приклеенные к стеклу с внутренней стороны. «Ролин стон» — вроде бы «Роллинг стоунз», так. «Чилентано» — тоже неплохо. «Стаз он 45» — «старз», это еще близко. «Имегранты». Это вообще здорово.
— Минуточку, — озаряет журналиста. — Что у вас за репертуар? Он же по идее должен утверждаться… А тут еще и «имегранты»…
Понял. Ребята гребут огромные деньги (в сезон, конечно), записывая то, что им удается достать самим. Ну и, конечно, все сверх плана — в карман. Если бы они держались списка, то подозреваю, что плохи были бы их дела…
Да и вообще: какое дело мне, например, отдыхающему Игорю, до списков, которые кто-то там составлял и утверждал? Может, у него три класса образования. Может, он одну Зыкину слушает. Может, он вообще музыку не любит — у него от нее нервная экзема.
Я понял, что нечто проклюнулось. Безотчетное такое чувство — что-то здесь можно поиметь, если события и дальше будут развиваться.
— Но нельзя, чтобы вы получали зарплату от государства, записывая вот такое, — объясняет журналист усатому. — Кто у вас вышестоящая организация?
Говоря это, он с близкого расстояния заснял крамольные списки, а затем и всю будку. Понеслось…
Они продолжали разговаривать, а я возвращаюсь на рынок, в темные ряды под деревянными козырьками, откуда пахнет приправами, чесночными солеными огурцами, маленькими желтыми дыньками. Хожу как в картинной галерее — медленно, думаю о своем, хорошо. Набиваю сумку. Покупаю бордовую, как будто лакированную чурчхелу и начинаю жевать. Все идет в нужном направлении.
Этот усатый не может даже написать правильно. Я же названия тщательно копирую на прилагаемую к кассете бумажку. Ставлю год выпуска, фирму: «Полидор», «Хризалис», «Эми»… Дело чести. Вот только знать бы, что там поют? Я, если хотите, люблю инструменталки. Хороший саксофон, например. Потому что это разговор на равных. А когда из динамика рыдает хриплый голос, а мне не понять, что происходит, — это раздражает. Что-то хорошее проходит мимо, и так близко.
Чурчхелу я догрыз. Солнце лупит по голове — спать хочется. Возвращаемся с журналистом в дом отдыха. Стараюсь вести себя тихо, такси не ловлю, трясемся в автобусе. Вот до чего доходит!