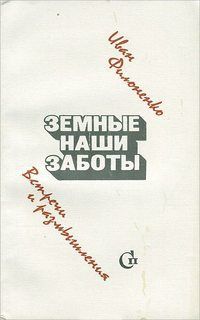Сергей Антонов - Царский двухгривенный
Славик покраснел, очистил травой руку, деликатно посмеялся вместе со всеми. Потом ушел домой, чувствуя себя почему-то виноватым, и не выходил во двор два дня…
— Ну чего застыл? Топай! — звал его Таракан.
— Мне домой надо. Ко мне должна прийти учительница музыки. С минуты на минуту.
— Иди, не трону… У меня к тебе клевое предложение. Хочешь голубей водить?
Славик выпучил большие серые глаза.
— Чего зенки вылупил? Хочешь?
— Хочу, — сказал Славик тихо.
Таракан открыл дверцу. Два голубя мраморной масти важно вышли на травку.
Голоса на третьем этаже затихли.
Славик вроде бы не понимал, чего от него хотят. У него звенело в ушах.
— Не надо, Таракан, — боязливо проговорила Машутка. — Чего ты…
— Ну, выбирай!
Славик, замирая, показал на ближнего подбородком.
— Женский пол уважаешь? — Таракан ухмыльнулся.
Славик сказал, что уважает.
— А можно, я моего голубка поглажу?
— Это не голубок, а голубка. Самка. Ясно?
— Ясно. А можно… — Славик громко сглотнул, — я мою самку в руки возьму?
— А мне что? Она твоя. Хоть хвост отрывай.
И Таракан с удовольствием метнул взгляд наверх, на неподвижные, онемевшие головы.
Славик поднял с земли голубку и осторожно понес по двору. Машутка, тихонько причитая, шла рядом.
— Какой из него голубятник! — плаксиво выкрикнул Коська. — Он свистать не умеет.
Таракан и ухом не повел.
— А я знаю, зачем ему Огурец! — съехидничал Митя. — Голубям шамать надо, а у Таракановых у самих завсегда жрать нечего.
«Ну, ладно. Сейчас я тебя достану, конопатый», — подумал Таракан.
— Огурец, как считаешь, — спросил он звонко, — Коську возьмем? — и, не дожидаясь ответа, позвал: — Коська, слезай!
— Больно надо, верно, Коська? — залебезил Митя. — Еще неизвестно, где он голубей стащил, верно? Он их на базаре стырил… Привлекут, тогда узнает… И Огурца с ним привлекут. Хочешь еще с медом?
— Давай, — сказал Коська.
— Выходи! — зазывал Таракан. — Не трону!
— Больно нам надо ворованных голубей! — быстро говорил Митя. — Ворованные, они все равно к старому хозяину полетят. Верно, Коська? Мы, если захочем… Куда ты? Значит, ты так? Да? Так?
— А если нет, то почему? — бесстыдно процитировал Коська и появился на крыльце, облизывая сладкие пальцы. В затруднительных обстоятельствах он обыкновенно прикидывался дурачком, и это у него хорошо получалось.
— Больно надо! — сиротливо выкликал Митя. — Курей водить! Привлекут!.. Больно надо!
— Теперь ты. Огурец, и ты, Коська, все равно что я, — сказал Таракан. — Наша задача одна: загонять чужаков. Ясно? Голубятники понесут выкуп — задешево не отдавать. Торговаться до поту. Всю выручку — в копилку. А когда копилка набьется полная и деньги не станут пролезать в дырку — ясно? — мы ее об кирпич — и каждый бери, сколько надо…
— А у Коськи на носу черти ели колбасу! — жалобно донеслось сверху. Таракан подождал, не будет ли еще чего. Больше ничего не было.
— Каждый бери, сколько надо, и девай, куда хочешь, — продолжал Таракан. — Хочешь — на кино, хочешь — на шамовку. Хочешь — в ресторан к нэпачам шамать иди.
— Вот это да! — загоготал Коська. — Ноги вымою и пойду в ресторан… Лиловый негр вам подает пальто!
Мстительно прищурившись, Таракан взглянул наверх. Рыжая голова исчезла.
Митя уполз страдать в глубину комнаты.
2
После завтрака мама разрешила Славику подышать воздухом.
Дышать воздухом полагалось в соборном садике. Там росли акации со стручками, и между акациями, по гравийной дорожке, как в мирное время, гуляли приличные дети.
Славик выбежал во двор. Никого не было. Только Машутка стерегла белье.
— Огурец, айда в камушки! — позвала она.
Славик мотнул головой. Ответить он не имел возможности. Только что на кухне он залил в рот полкружки воды и вынес ее во рту из дому.
Он посмотрел, не выглядывает ли из окна мама, и, вместо того чтобы дышать воздухом, полез по отвесной пожарной лестнице на крышу.
Лестница болталась и гремела. Взрослые без крайней надобности по ней не лазали. Но Славик забрался благополучно. Он нес голубям завтрак.
Голубятня наполовину высовывалась из слухового окна и глядела на юг. Торцовая рама, затянутая сеткой, выдвигалась вбок, как крышка пенала.
Голуби привыкали к месту. Чтобы трубачи не скучали, им в компанию была прикуплена пара копеечных разномастных скобарей.
Когда Славик подошел, вся четверка сидела на жердочке, нахохлившись, будто на приеме у зубного врача.
Птицы одинаково, одним глазом, посмотрели, кто пришел, и отвернулись.
Даже Зорька — так Славик назвал свою мраморную голубку — не проявила радости при виде хозяина. Вероятно, она ожидала Таракана или, на худой конец, Коську.
Славик достал из голубятни банку, вылил в нее изо рта воду, поставил банку на место, покрошил хлебца.
С высоты четырех этажей хорошо был виден весь город — и громадный, похожий на мечеть собор, построенный неожиданно разбогатевшим и вследствие этого поверившим в русского бога татарином, и дико разросшийся вокруг собора садик, тот самый, где дышали воздухом приличные дети. Про татарина-выкреста рассказывали, что он обеднел так же быстро, как и обогатился, и умер, всеми покинутый, со словами корана на устах: «Кого проклинает аллах, тому не найти помощников…» Видна была и каланча, на которой зажигалкой сверкала каска пожарника, и остро заточенный карандаш колокольни, на которую залезал сам Пугачев, когда собирался «заморить город мором».
С другой стороны, за цирком, куликовой битвой гудел и равномерно перемешивался базар и, как насосы, в себя и из себя, ревели ишаки, а еще дальше темнели добротные крыши Форштадта. Там обитали потомки славного яицкого воинства, трудовые казаки, хвастали своими дедами и прадедами, пасли гусей и откармливали чушек.
Большой дом, в котором жил Славик, назывался домом Доливо-Добровольского. После революции дом был национализирован. Бывшему хозяину оставили две комнаты, а в просторные квартиры поселили железнодорожных рабочих и служащих, стоящих на платформе Советской власти.
В дом Доливо-Добровольского упиралась Артиллерийская улица, знаменитая не артиллерией, а тем, что на ней проживал кривой Самсон, владелец самой большой во всем городе голубиной стаи.
Вряд ли у кого-нибудь в другом городе, даже в Москве, была такая богатая стая. Рассказывали, что Самсон давно потерял счет голубям и не может отличить своих от чужаков.
Лестница загремела. Над крышей высунулась рыжая голова Мити.
— Нету? — спросил Митя.
Славик понял, что вопрос относился к Таракану.
— Нет, — сказал он. — Заходи.
Митя подошел, присел на корточки и спросил:
— Который твой?
— Вон тот. Крайний. Называется Зорька.
— Давай его сахарком угостим. Пускай погрызет.
Митя зачерпнул из кармана горсть гвоздиков, цветных стеклышек, ломаных оловянных солдатиков и разыскал среди этого добра черный кусочек сахара.
— Не надо, — сказал Славик. — Скобари отнимут.
— А ты ее достань. Мы из рук угостим.
— Нельзя. Во-первых, ты бы уходил, Митя. Таракан увидит — обоим достанется.
— Крыша не его, — возразил Митя. — Крыша народная. Пусть только тронет. Я тогда у вас всех голубей повыпускаю.
— Вот так здорово! А моя голубка при чем?
— Твоя! Ты ее и тронуть боишься.
— Почему боюсь. Нисколько не боюсь.
— Ну так достань. Чего же ты?
— Как ты не понимаешь, Митя… Голубей на руки брать нельзя. От рук они лысеют.
— Ладно заливать! Лысеют!.. Таракана боишься… Так и скажи. Ну, открой сетку. Положим ей сахарку.
— И открывать нельзя. Отойди.
— Вот хозяин! — ухмыльнулся Митя. — Того нельзя, этого нельзя. А чего тебе можно?
— Как чего? — Славик смутился. — Водичку давать можно. Смотреть можно.
Митя прошелся по крыше, почесал ногой ногу и сказал:
— Никакой ты не голубятник.
Славик сделал вид, что не слышал.
— Никакой ты не голубятник, — повторил Митя, — а обыкновенный лакей. Как при баринах были лакеи, так и ты при Таракане лакей.
— Ну и ладно, — Славик подумал немного. — Какой же я лакей, когда он мне Зорьку подарил. Лакеям трубачей не дарят.
— Подарил, а в руки взять не смеешь. Она тебя и за хозяина не признает.
— Кто?! Зорька?! Не признает?
— Ну да. И не глядит на тебя. Тоже называется — хозяин!
— А вот сейчас увидишь. Гуля-гуля!
— Ну и чего? И чего? И ничего особенного. Ей кушать не дали, она расстроилась… Гуля-гуля!.. Ее скобари побили… Зорька, Зорька, на-на-на!..
— Не глядит! — с удовольствием отметил Митя.
— Погоди, я спою. Коська им пел, они глядели…
И Славик торопливо запел:
Ах Мотя, подлец буду,
Твой взгляд я не забуду.
Ведь я любовь потратил на тебя…
— Все равно не глядит, — безжалостно повторил Митя. — Хоть пой, хоть пляши.