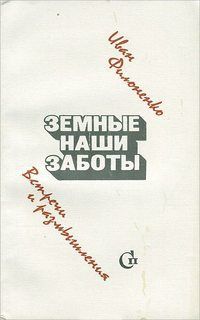Сергей Антонов - Царский двухгривенный
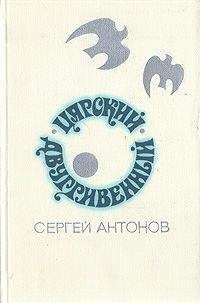
Обзор книги Сергей Антонов - Царский двухгривенный
Наташе
1
Все это случилось давно-давно, когда деньги называли червонцами, жили без паспортов, кино смотрели по частям, боролись с волокитой, трамбовали бетон ногами, мастерили детекторные радиоприемники, когда в моде были штиблеты фасона «шимми» и на базарах продавали занимательную игрушку: «борьба Маркса с торгашами».
В те далекие времена, когда были еще живы изобретатель граммофона Томас Альва Эдисон и великий художник Репин, а Маяковский дописывал поэму под названием «Хорошо», ревизор международных вагонов прямого сообщения Зиновий Мартынович Таранков прибыл домой выпивши.
Прибыл он среди ночи и с клеткой. В клетке бились два голубя.
Хотя ревизор долго плутал под дождем, клетку он все-таки дотащил и положил на кровать в ноги.
Проснулся он от голубиного гуркования. В памяти всплыла вчерашняя пирушка, длинная карточная баталия, сперва преферанс, потом «по носам». Хозяин проигрался в пух и в прах и вместо выигрыша всучил сильно выпившему ревизору голубей.
Припомнив всю эту чертовщину, Таранков выплюнул изо рта перышко и велел сыну убрать клетку с глаз долой.
Сына Таранкова во дворе звали Таракан. Таракан никогда не смеялся. Лицо его казалось костяным. Сколько ему было лет, тринадцать или четырнадцать, — отец не помнил, а сам Таракан не знал. Мать его оставила в наследство сыну зеленоватые, золоченые глаза и сбежала с дутовским есаулом куда-то в Харбин. Таракан был мальчишка тщедушный, но отчаянный. Все знали, что где-то на себе он прячет острый как бритва самодельный кинжальчик — «перышко», — и без нужды к нему не приближались.
Таракан вынес клетку с голубями во двор.
— Митька, смотри-ка, — простонал вымазанный чернилами Коська. — Вот это так крем-бруле!
Долговязый Коська знал множество красивых выражений: «Крем-бруле», «Я по-прежнему такой же нежный» и даже «Лиловый негр мне подает пальто», но применял их не всегда к месту. Парень он был туповатый и считал, что в Америку ездят на поезде.
Вместе с мальчишками подошла поглядеть на голубков и шестилетняя Коськина сестренка Машутка, замечательная тем, что почти со дня своего рождения носила дамскую шляпу с большим зеленым пером.
Ребята любовались голубями. Только Славик сидел на корточках возле помойки и, притворяясь занятым, выковыривал щепкой из земли винтовочный патрон.
Среди дворовых ребят царили твердые правила и обычаи. Например, дома рубли назывались рублями, а во дворе — хрустами. Перед дракой обязательно надо было засучить рукава. Слабый должен беспрекословно слушаться сильного. Всем было известно, кто кого должен бояться. Машутка боялась Митю, Митя боялся Коську, а дылда Коська, хотя ему и стукнуло пятнадцать лет и у него уже была дама сердца, боялся Таракана.
Славик боялся всех, даже Машутку.
Только что получив от Коськи ни за что по уху, он решил выказать гордость и некоторое даже чувство собственного достоинства. «Сейчас позовут, — думал он, — а я скажу: «Благодарю вас… Мне некогда. Ко мне с минуты на минуту придет учительница музыки… Кроме того, у меня будет день рождения, и мне подарят турманов не хуже ваших».
Но его никто не звал, к сожалению.
Некоторое время ребята смотрели, как Таракан выправляет погнутые прутья клетки. Потом Коська спросил:
— Ты чего это делаешь?
— Стригу шерсть с черепахи, — ответил Таракан.
Зрители почтительно помолчали.
Конопатый до самых ушей, будто заржавленный, Митя протянул загадочно:
— А я знаю, где сетку для голубятни стырить!
Водить голубей была его заветная мечта.
— Думаешь, Таракан сам не знает? — сказал Коська. — Голубей гдей-то унес, так сетку и подавно унесет. Таракан чего хочешь стырит.
Примитивная лесть не подействовала. Таракан в беседу не включался.
— А голуби дорогие. Чистые, — сказал Коська.
— Ясно, чистые. Трубачи, — согласился Митя и, чтобы понравиться Таракану, добавил: — Три хруста — пара. Не меньше.
— Ну да, три, — возразил Коська, — Пять хрустов.
Мальчишки выжидали. Митя понимал, что кого-то из них Таракан обязательно должен взять в напарники. На общем дворе, куда выходит не меньше шестидесяти окон, одному человеку голубей не уберечь.
— Вот ты, Коська, заладил: «Пять хрустов, пять хрустов», а не знаешь, почему трубача называют трубачом. А я знаю, — похвастал Митя.
— И я знаю.
— Почему?
— Потому.
— А почему?
— Потому что они трубят.
— Ты что — очумел?
— А чего? Раздувают зоб и трубят нутром.
— Трубач залетает на небо и падает оттудова камнем, — снисходительно объяснил Митя. — Падает и перекувыркивается. И, не разобравшись, может угодить в трубу. Потому и называется трубач.
Ребята посмотрели на Таракана. Он и на этот раз не изъявил желания включиться в беседу.
— Я так считаю, что голубятню надо ставить на крыше. С нашей крыши всех голубятников видать.
— Это правда, — добавил Коська. — С нашей крыши всех голубятников видать.
Таракан не отозвался и на это разумное соображение.
Он вычистил клетку и собрался уходить.
И тут Коська не выдержал:
— Таракан, прими, а-а-а!.. — заныл он, как нищенка. У него ломался голос. Он ныл то басом, то тенором.
Таракан скрестил руки на груди — принял позу, как известно со времен Бонапарта, ничего доброго не предвещавшую.
— А кто пожалел пирога с визигой, когда Таранков согнал меня с квартиры и я голодовал три дня, как собака? — вопросил Таракан.
Он называл родного отца не иначе как по фамилии.
— У нас пирогов сроду не пекут, — сказал Коська. — У нас и печки нет, чтобы пироги печь.
— Чужому побирушке и то подают, когда он голодует, а тут свой же кореш застывает от холода-голода, выгнатый родителем из дома… — голос Таракана дрогнул. Как истинный атаман, рн любил посентиментальничать. — Свой же кореш застывает от холода-голода, а они куска не вынесут. А ну, давай отсюда! — взъярился он внезапно.
Митя мигом отлетел к черному ходу и сказал с крыльца:
— Двор не твой. Двор народный.
Он потоптался на крыльце.
— Пошли к нам, Коська! Ну его, с его голубями! Пошли, меду пошамаем.
Минут через пять ребята высунулись из окна третьего этажа. Оба держали ломти хлеба, залитые медом, на растопыренной пятерне, как блюдца.
— Разве это голуби, — сказал Митя из окна. — Вот у Самсона голуби так голуби.
— Да! — подтвердил Коська. — У Самсона голуби — крем-бруле!
— У Самсона, я видал, мохначи так это действительно мохначи. Пять хрустов пара. А за этих хруста никто не даст.
— Кому они нужны за хруст-то, — согласился Коська, слизывая мед с пальцев.
— Заморенные какие-то. Лохматые. Сроду не видал таких лохматых голубей. Они, я думаю, не чистые трубачи.
— Они рядом с чистыми не сидели.
— Они, Коська, на курей похожи, — засмеялся Митя.
— Это верно, — гоготал Коська то басом, то тенором. — Это куры у него, а не голуби…
Тонкие губы Таракана сошлись в ниточку. Он стал искать глазами камень. Взгляд его наткнулся на Славика.
— Огурец! — позвал он. — Иди сюда!
Славик растерянно поднялся, сделал шагов пять и остановился.
— Мне домой надо, — сказал. — Ко мне должна прийти учительница музыки. С минуты на минуту.
— Иди, не трону, — подбодрил его Таракан.
Славик стал пододвигаться вроде бы к Таракану, но в то же время и немного в сторону. Ясно, что Таракан задумал какой-то подвох.
Ни над кем так часто не потешались во дворе, как над Славиком. Происходило это, наверное, потому, что у него была продолговатая голова. У всех ребят головы были круглые, а у него длинная. За эту неприличную голову его дразнили «Клин-башка — поперек доска» и прозвали Огурцом. К прозвищу он привык и откликался беззлобно, а дома мечтал иногда, что в одно прекрасное утро проснется с круглой, как колобок, головой и выйдет во двор такой же, как все…
Недавно Коська ни с того ни с сего предложил ему поиграть в красных дьяволят. Славик радостно согласился. Коська велел ему встать на пост возле дровяного сарая и пообещал вынести из дома настоящее ружье. Он спросил, держал ли когда-нибудь Славик на плече ружье. Славик честно признался, что не держал. Коська согнул ему правую руку в локте, ладонью вверх, велел закрыть глаза и побежал за ружьем. Замирая от счастья, Славик крепко зажмурился. Он слышал, как пискнул, не удержавшись от смеха, Митя, слышал тонкий голос Машутки: «Ну, не надо… Ну, зачем вы его», но ни тени сомнения не закралось в его доверчивую душу. Он только спросил: «Скоро?», услышал: «Сейчас, сейчас!» и вместо надежной тяжести правдашнего приклада ощутил на ладони мокрое. Он открыл глаза. Сердобольная Машутка стыдливо хихикала. На ладони Славика лежала куриная какашка.