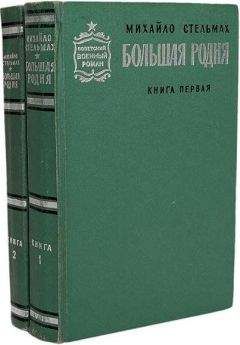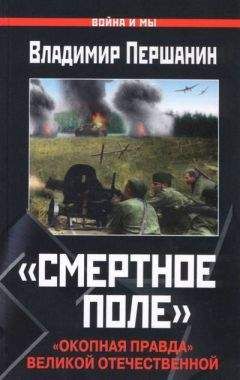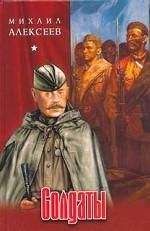Михаил Стельмах - Правда и кривда
— На стол!
Санитары подошли к телеге, на миг настороженно обернулись, прислушиваясь к западу. Колеса войны уже громыхали недалеко от госпиталя.
— Да, — глубокомысленно сказал один.
— Бывает, — согласился второй и вздохнул.
— Не слоняйтесь! — подогнал их начальник госпиталя.
Санитары положи на носилки Бессмертного и понесли в подземелье, которое ругалось, стонало, плакало, командовало и задыхалось в испарениях лекарства, крови, земли.
— Роза, Роза, я Лилия! — вызывал кого-то из дали раненный радист. — Как слышно? Прием… Роза, Роза!..
— Пошел ты к чертовой матери вместе со всеми своими цветочками. Ой, болит.
— Что болит?
— Нога болит.
— А где же она?
— Нет. В окопе осталась, а здесь болит…
Кто-то рванул Марка за ногу, потом за другую и удивился:
— Вы посмотрите на этого новичка — у него вместо онуч разодранный эсэсовский флаг.
«Топчу фашизм!.. Топчу кривду!», — хотел сказать Марко, но слова его были такими слабыми, что не могли раскрыть губ.
Марка снова подхватили чьи-то руки, куда-то понесли и положили на что-то холодное. Он ощутил, как на него наложила приторно-едкую маску, и понял, что лежит на операционном столе. Но его охватила такая слабость, что впервые за всю войну подумал о смерти. И после этого перед ним качнулись, расходясь в разные стороны, две дороги. Одна, осветленная, бежала в родное село, к ней примыкали головастые подсолнечники и его хата-белянка, а вторая, серая, мглистая, погружалась в мрак.
«Эта первая — на жизнь, а вторая — на смерть», — понял Марк, стараясь как-то не замечать той второй дороги. Но видения чередовались — их нельзя было перехитрить. Вдруг все вздрогнуло от взрыва. Рушась, ухнула земля, послышались вскрики, а потом кто-то крякнул:
— Хирурга, хирурга выноси?
Густые горячие волны, обдавая Марка, начали безумно накручиваться на него и растягивать все тело. С этим невыносимым ощущением он куда-то провалился, но со временем начал всплывать или выходить из небытия. Он услышал, как кто-то, крадучись, подошел и встал у его ног. Марко раскрыл глаза, холодея: на фоне тьмы, как на громадном рентгеновском снимке, увидел смерть. Она была точь-в-точь такая, какой знал ее из старинных сказок, из рисунков или сновидений.
Смерть отделилась от своего рентгеновского снимка, взглянула на Марка и устало, без угрозы сказала:
— Теперь уж, Марко Проклятый, настал твой смертный час.
— Врешь, костлявая! — не испугался — возмутился Марк.
Сверхчеловеческим усилием он поднялся со стола, слабыми ногами встал на землю и сжал кулаки, готовясь драться до последнего дыхания.
Но смерть не бросилась на него, а изумленно спросила:
— Почему же я вру?
— Потому что я не проклятый… Это давно, еще до революции, так дразнили мой бедный обездоленный род и меня. Тогда мы были прокляты… И время мое не вышло, потому что я еще не напахался, не насеялся, не налюбовался землей, не нажился.
— Это все правда, — согласилась смерть. — Но тебе нечем жить.
— И снова ты врешь — у меня все есть, чтобы жить.
— Все? А где ты возьмешь кровь для своего сердца?
— Ее дадут мне братья.
— У тебя их уже нет. Разве забыл, что я всех троих забрала на кладбище?
— Этого не забывают. Ты забрала троих, а у меня их тысячи, братьев, — по вере, по совести, по любви. Я с ними, они — со мной, и у нас одна кровь, одна жизнь… Пошла вон от нас! — Марко, пронизывая глазами глазницы смерти, поднял на нее кулаки.
И смерть скисла, отступила назад, вошла в свой снимок и исчезла.
Перед Марковыми глазами снова появилось две дороги. На той, ведущей через всю землю к его хате, сверкнуло солнце, и на его сияние поворачивали и поворачивали золотые головы усеянные росой и пчелами подсолнечники. А на другой дороге качнулся мертвый туман.
Марко, теряя сознание, качаясь, падая и снова поднимаясь, как мог, пошел к подсолнечникам. Они увидели его, закачались, здороваясь с ним. Он дошел-таки до золотого поля и уже должен был упасть, но подсолнечники шершавыми хлеборобскими руками поддержали его, как он когда-то в непогоду поддерживал их род. И теперь между ними он тоже был похож на изуродованный, с вывороченными корнями подсолнечник, которому по всем правилам и законами надо было бы умереть, но который своими законами держался за жизнь.
I
У нас только в марте после вьюги бывают те неожиданно удивительные дни, когда, широко просыпаясь от сна, природа каким-то одним страстно-волшебным завершением так соединяет землю и небо, как даже бог не мог соединить душу и тело.
Посмотришь о такой поре на небо, нарисованное, по самые венцы заваленное лебедиными облаками, сквозь которые пробивается голубизна, посмотришь на землю милую, свежо-свежо занесенную мягким, с солнечной росой снегом, который позванивает первыми голубыми ручьями, — и не знаешь, где начинается и где заканчивается белая неистребимая вселенная и где ты находишься в ней.
Так теперь и Марко Бессмертный не знал, выныривая из волн тревожного и дурманящего полузабытья.
Хмельной, с прохладой, барвинковый цвет, цвет ранней и зрелой весны, с размаха ударил крылом ему под веки и выбил несколько слезинок, которые, как прицепленные, закачались на темной основе опущенных ресниц. От неожиданности Марко на миг прикрыл глаза рубцами скрепленной и склепанной, но уже отбеленной в госпитале руки, отогнал ею остатки полузабытья, встал на санях и радостно, как-то заговорщически-хитровато, бросил улыбку в пучки морщин под глазами и в задиристую от естественной неровности подковку усов. А разве же не было чему радоваться человеку?
Перед собой он видел не пропитанные кровью бинты и не мертвенно-стерильные стены госпиталя, до кирпича и цемента пропахшие медициной, а титаническую безмерность снегов и облаков, из которых в предчувствии весны высекалась, выплескивалась, вырывалась, колобродила и лепетала в стремительных поисках новых форм подрисованная просинь. Теперь ничего мелкого не было и не хотело быть в природе — все разрасталось само по себе, отдельные тучи перегибались, заплывали за край земли, как неоткрытые материки, и даже невидимое солнце таки выхватывало из далей целые участки освоенной земли, из небесных ковшей проливало на них кипень всколоченного серебра и все это озерами перегоняло под все части света.
Марко сначала даже не поверил, что он живым и наполовину здоровым въезжает в глубину творения такой красоты. Вот когда он умирал, к нему всегда приходили не грязь и кровь войны, а наплывала в буйной праздничной обновке земля. И Марко сквозь все свои боли предупредительно, беспомощно и жадно присматривался к ней, присматривался даже крепко закрытыми глазами, потому что, и умирая, он оставался земледельцем.
И земля тогда тоже смотрела на него, как живая, и угадывала его желания.
Он хотел видеть вишневое цветение, и перед ним, прямо на знакомых и незнакомых улицах, на весенних плесах и заводях, даже на бесплодной, проржавленной передовой зацветали, по-братски прислоняясь плечом к плечу, краснокорые, в веснушках вишняки. Он вспоминал леса — и они, высвобождая ноги от покореженной колючей проволоки, а корни от смертоносной минной начинки, подходили к нему со своими мудрыми целебными травами, с добрыми стаями птиц, которые пением проклевывали ночь, с теми пугливыми и милыми зайчатами, о которых он еще в первой группе пел:
А нікуди зайчику вискочити,
А нікуди зайчику виплигнути…
«А некуда выскочить?!» — и это не о нем теперь? Ведь попался в лапища смерти, как заяц лисице…
Но силой воли прогонял такие мысли, как грачей, и звал к себе или утреннее, в свадебном венке солнце, или полузабытое детство, или мать. И они со всех концов спешили к нему, как будто он был чародеем.
А чаще всего хотелось видеть свою милогубую, золотоволосую, как осенняя вербочка, Еленку, которую по-настоящему начал любить после законного брака. И Елена, прижимая к груди их единственную дочь, спешила навстречу ему; напрямик переходила танковые рвы, змеящиеся мотки Бруно, переходила линии оккупации, линии фронта и линии смерти, чтобы увидеть мужа, хоть и знал он, что Еленки уже нет.
Так земля жалела его, когда он, еще не нажившись, должен был попрощаться с нею; наверно, поэтому и выживал, что видел не хищные химеры и страхи, нацеленные, вонзающиеся в человеческое сердце, а тихую мать с младенцем, и росистую, в пыльце пшеницу или кудрявый овес в ложбинке, и крестьянскую хату с подсолнечниками и мальвой перед ней, разноцветы и поздноцветы возле нее, и смешно напыщенного аиста с аистятами на ней, что в туманный лунный вечер кажется уже не птицей, а самым сном…
От такого удивительного воспоминания об аисте Марко весьма веселеет, снова бросает улыбку в подмороженную годами подковку усов и снова от края и до края вбирает в душу весь празднично-белый свет.