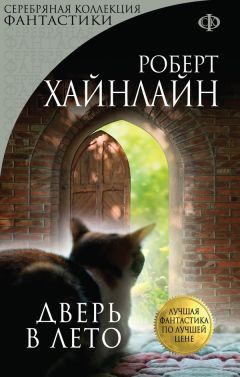Юрий Либединский - Зарево
— Подождите, все благополучно. Какая вы нервная! Он уже выздоровел и назначен начальником штаба кавалерийской дивизии на Кавказском фронте.
— Тяжело был ранен, да? — Она раскачивалась, держась рукой за щеку, точно у нее зуб болел.
— Да, но все прошло. Я имею деловые отношения с некиим Джафаром Касиевым, вы, может быть, помните его, тоже веселореченец. Он рассказал мне обстоятельства ранения. Его ранили вот сюда, — Гинцбург тихонько шлепнул себя по жирному затылку. — Пуля повредила челюсть и задела язык.
— Бедный, бедный… — шептала Анна Ивановна. — Но почему сзади?
— Знаете, полк состоял из его единоплеменников, а отношения у них, особенно после восстания, такие сложные.
— Поймать бы этого, кто стрелял, и пальцы отрубить, потом язык… И на мелкие кусочки! — сквозь стиснутые зубы проговорила Анна Ивановна, и Гинцбург поежился: он не любил видеть пролитую кровь и даже представлять ее себе не хотел.
«Тоже хорошая дикарка, — подумал он. — Стоят друг друга».
— Не надо волноваться, — сказал он успокоительно. — После того как мы введем вас в права наследства, вы в конце концов можете позволить себе роскошь иметь князя Темиркана в любом качестве, в каком захотите. И тогда, если даже из Нидерландов или Нидерландской Индии явится какой-либо претендент…
— Я вам говорю: ниоткуда никто не явится, — нетерпеливо сказала она.
— Но всякий человек где-нибудь родился, — возразил Гинцбург. — У него могут быть если не родные братья и сестры, то двоюродные, или там дядя, или племянники, еще какие-нибудь ван Андрихемы…
— У него никого нет. Он стал ван Андрихемом в этой Нидерландской Индии. А родился он… — она помолчала. — Мне кажется, что родился он в Германии, потому что бредит по-немецки.
И как только она это сказала, Гинцбург вдруг понял, что она права, что никем, кроме как немцем, он быть не может.
«Это надо запомнить», — подумал Рувим Абрамович, рассеянно кивая головой и слушая ее шепот. Она просила во что бы то ни стало помочь ей свидеться с Темирканом, вызвать его в Петербург, чтобы встретиться и объясниться…
3Борису и Константину нужно было пройти с одного конца Петербурга на другой. Боря предложил проехать в трамвае, но Константин отказался. Конечно, юнкерский погон давал некоторые привилегии Константину, он даже имел право войти внутрь вагона. Но там всегда можно было встретиться с офицером, а среди офицеров порой попадались заносчивые и придиры. А придраться можно было ко всему: ремень недостаточно затянут, фуражка набекрень, честь отдал небрежно. И будут тебя распекать на глазах всей публики.
Борис и Константин быстрым шагом в ногу прошли по всему Литейному. На вопросы Константина Боря отвечал очень коротко, видимо стеснялся. Так дошли до Невского, где Константин после приезда в Питер еще не бывал. Весь в белых и желтых огнях электричества, в пестром мерцании витрин, Невский гремел трамваями, и серо-стальные таксомоторы, оставляя бензиновую вонь, один за другим пролетали мимо. Толпа запрудила панели. Константину бросилось в глаза несколько вывесок кафе, то вертикальных, то написанных наискось. Выкрики, взвизги. Намалеванные женщины на перекрестках вплотную приближали свои лица к Константину, так что он отшатывался.
— Автомобилей стало много, — сказал Константин.
Борис поднял к нему бледное, с красными губами, обмерзшее лицо.
— Я слышал от одного военного, что маршал Жоффр, когда немцы подошли к Парижу, мобилизовал все парижские таксомоторы, несколько тысяч, и, перекинув целую армию с одного участка фронта на другой, заткнул таким образом прорыв, который сделали германские дивизии.
— Ты внимательно следишь за военными действиями? — спросил Константин.
— Сначала следил внимательно. В кабинете у Игната Васильевича висит карта обоих театров военных действий, и я флажками отмечал каждое изменение фронта.
— Ну, а теперь не отмечаешь? — спросил Константин.
Борис ничего не ответил. «Наверно, почувствовал в моем вопросе оттенок насмешки», — подумал Константин.
— Так кто же все-таки победит, по-твоему? — теперь уже серьезно спросил он.
— Зверь из бездны победит, — ответил Борис и резко захохотал. Константин взглянул на него с удивлением: смех был не по возрасту злой и тоскливый. — Попал я тут недавно на молитвенное собрание к баптистам, там дедушка один начитывал из апокалипсиса: и два царя, и три всадника, и семь печатей. Но главный номер — зверь из бездны. И таким он расписал этого зверя, что мороз по коже: столько голов, и рогов, и зубов, жало змеиное, дыхание зловонное… Бабы воют, в подвале тьма, факелы дымят. Жутко, Константин Матвеевич, в Питере. По Невскому пройдешь — не только дамочки, даже мальчишки есть накрашенные. Из кафе вдруг, когда дверь откроют, такой жирный спекулянт вывалится, как свинья в дохе. Шарит, сволочь, в кармане и кредитки по земле роняет. А у нас на заводе сколько времени бастовали — и ведь из-за копеек… Ну да ничего. «Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год…»
Константин даже остановился.
— Это… что это? — спросил он.
— Маяковский. Футурист.
— Футурист? — спросил Константин. — На футуризм не похоже.
— Футуризм — это до войны было, баловство, — сказал Борис. — Сейчас всерьез пошло!
И Борис стал, громко скандируя, читать любимые стихи, невнятным мычанием заменяя забытые строчки. Впервые стихи Маяковского прочел он в «Новом Сатириконе». С тех пор искал их всюду. И когда находил в маленьких, пестро изданных книжечках, то выучивал наизусть.
Уже огни центра были позади. Позади осталась и тусклая вода Обводного канала, а они все шли куда-то в синеватую мглу, среди нескончаемых шеренг молчаливых домов. Боря, подбодренный вниманием Константина, от чтения стихов перешел к каким-то столичным анекдотам, к уличным песенкам.
А лавочник в переднике
Возвысил грозно бас:
— Куда вы, привередники?
Нема муки для вас! —
пел он на какой-то лихорадочно подпрыгивающий, не то унылый, не то разухабисто-веселый мотив: голод, горе, нужда. В этой жутковатой песенке Константину чудилась та обнаженная правда, которая так поразила его в стихах Маяковского. Правдивость, переходящая в обнаженность и выворачивание нутра, для Константина была уже неприемлема.
Нет, он никогда не стал бы рассказывать перед всем городом, перед всем человечеством о неразделенной любви к девушке, как рассказывал этот огромный, сильный и беззащитный человек в своей поэме с названием, которое Константину показалось манерным: «Облако в штанах». Но когда Боря читал эти стихи, становилось жаль поэта, хотелось ему помочь, так же как и этому мальчику, в черной морской куртке, с поднятым воротником, болезненно худым лицом и покрасневшими на морозе надбровьями. Взвинченные нервы, одиночество, гордость, а может быть, и недоедание. Ведь все-таки сирота. «Дом замужней сестры — не то что родительский», — думал Константин. А вокруг большой город, столица империи. И всё в мире день за днем кричит о крови, о войне, о страданиях человечества.
Константину нравился Борис, и беспокойно было за него. Он вспомнил вдруг приятеля и спутника своего Асада с его страшным несчастьем — с внезапной слепотой. Несчастье страшное, может быть непоправимое, а за Асада, за самую душу его беспокойства не было.
Борис привел Константина к почерневшему бревенчатому двухэтажному дому. С прикрытыми ставнями, освещенными красноватым светом уличного фонаря, какие к тому времени сохранились только на окраинах Петербурга, дом этот выглядел тоскливо. Впрочем, такой была вся улица — прямая и широкая, застроенная такими же домами, уходившими куда-то в туман, где мерцали редкие огни. Борис нажал кнопку звонка. Долго не отворяли, потом послышались осторожные шаркающие шаги по лестнице.
— Кто там? — спросил старушечий голос.
— Это я, бабушка, Боря.
Слышно было, как старуха поднимает засов.
— Это, знаешь, какая старуха? — шепотом сказал Борис Константину. — Других только по паролю пропускает, ну, а меня — по голосу.
Гордость была слышна в его шепоте.
Старушка, открыв дверь и увидев Константина, его солдатскую шинель, вздрогнула и отшатнулась.
— Бабушка, не бойся, это свой, — сказал Борис.
Они поднимались по темной лестнице, старуха, ворча что-то, возилась с засовом.
— Вот здесь, — и Борис указал на закрытую дверь, откуда сквозь щели струился свет, показавшийся Константину голубоватым. — Заходите, я с бабкой поговорю, чтобы не сердилась.
Открыв дверь, Константин увидел небольшую, чисто прибранную и, пожалуй, даже кокетливую комнатку — эта комната могла принадлежать только девушке. В углу, у маленького столика, где на шахматной доске расставлены были фигуры, сидели двое, и комната была погружена в то сосредоточенное безмолвие, которое сопровождает шахматную игру. Один из шахматистов, черноволосый, в черном пиджаке, сидел спиной к двери. Другой, покачиваясь, покуривал, ерошил свои темно-русые, с рыжеватым отливом, густые волосы. Цвет волос, скуластое веснушчатое лицо и даже манера раскачиваться в минуты сосредоточенного обдумывания — все это были неизменные приметы Антона Ивановича. Но Константин помнил Антона всегда растрепанным, обросшим, с расстегнутым воротом. А сейчас: новенькая серая тройка, крахмальная сорочка, красивый галстук… Сделав ход, он поднял от доски сосредоточенный, занятый шахматными комбинациями взгляд. Глаза у него были светло-голубые, брови рыжеватые. Константин, посмеиваясь, стоял в дверях комнаты. По выражению изумления и даже тревоги он видел, что друг не признал его. Да и не мудрено! Ведь перед ним стоял юнкер, — чего доброго мог ждать Антон от человека с юнкерскими погонами? Уже щеки Антона стали буреть, румянец выступил сначала на скулах, кулаки сжались, и взгляд его мгновенно обежал комнату, наверно подыскивая, что бы такое схватить потяжелее ударить непрошеного гостя, загородившего дверь на улицу. Но тут Константин громко расхохотался и сказал: