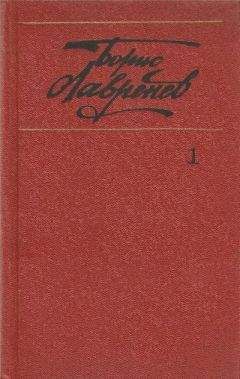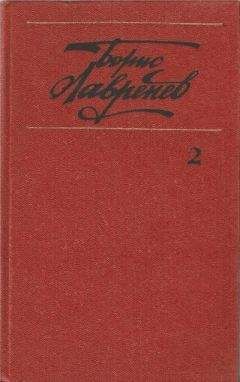Борис Лавренёв - Срочный фрахт
— Небось без няньки жить не можешь? — сухо ответила Марютка и покраснела.
— Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал, а трубку я потерял.
— Бумаги… — Марютка задумалась.
Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек.
Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги.
— Вот тебе на завертку.
Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом.
— Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!
— Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера! — крикнула Марютка.
Поручик посмотрел на нее.
— Спасибо! Я этого никогда не забуду!
Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль, сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.
Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:
— Вот гляжу на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно.
— Не знаю, — ответил поручик, — с такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.
— Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза!
— Для кого?
— Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растревоживают!
— А тебя растревожили?
Марютка вспыхнула.
— Ишь, черт! А ты не спрашивай! Лежи, а я за водой сбегаю.
Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из-за рыбных штабелей, весело повернулась и сказала, как раньше:
— Дурень мой, синеглазенький!
Глава восьмая, в которой ничего не нужно объяснять
Мартовское солнце — на весну поворот.
Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.
Третий день как стал ходить поручик.
Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров облазила тем временем.
Возвратилась в последний день к закату радостная.
— Слышь! Завтра переберемся!
— Куда?
— Там, подале. Верст восемь отсюда будет.
— Что там такое?
— Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не биты. С печкой, посудины кой-какой, битой, черепки, — все сгодятся на хозяйство. А главно — полати есть, Не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойтить.
— Кто же знал?
— Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!
— А что?
— Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну, и осталось там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впопыхах. Теперь живем не тужим!
Утром перебирались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.
— Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! Я с виду тонкая, а здоровая.
К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.
— Лафа… Царское житье!
— Молодец, Маша. Всю жизнь буду тебе благодарен… Без тебя не выжил бы.
— Известно дело, белоручка!
Помолчала, растирая руки над огнем.
— Тепло-тепло… А что ж дальше мы будем делать?
— Да что же делать? Ждать!
— Чего ждать?
— Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две — рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.
— Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера!
— Что у тебя за присказка такая — рыбья холера? Откуда?
— Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это за место чтоб ругаться. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.
Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:
— Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова… С Пятницей. Чем зря сидеть — расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше было. Наполевона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.
— Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.
— А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!
— Ладно. Постараюсь.
Поручик полузакрыл глаза, вспоминая.
Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.
— Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.
Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.
— Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.
Поручик оперся на локти. Начал:
— В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо…
— А где этот город-то?
— В Англии… Жил богатый человек Робинзон Крузо…
— Погоди!.. Богатый, говоришь? И почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.
— Не знаю, — недоуменно ответил поручик, — мне это и в голову никогда не приходило.
— Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня нет для его. А я бы об бедном человеке написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.
— Да… Так вот задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле…
Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.
Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробностями.
Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа.
Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила:
— Что ж, значит, все, кроме его, потопли?
— Да, все.
— Должно, дурья голова капитан у них был или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое большое — два-три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.
— Почему? Утонули же у нас Семянный и Вяхирь. Значит, ты плохой капитан или нализалась перед крушением?
Марютка оторопела.
— Ишь поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!
В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:
— Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты — Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру видела. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы — во! Морда страшенная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь свиного уха!» Серчал здорово. Каменюгами бросался.
При рассказе о нападении пиратов Марютка сверкнула глазами на поручика:
— Десятеро на одного? Шпана, рыбья холера!
Поручик кончил.
Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Промурлыкала дремотно:
— Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай.
— А что? Разве нравится?
— Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.
Поручик зевнул.
— Спать хочешь?
— Нет… Ослабел я после болезни.
— Ах ты слабенький!
Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики.
От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.
Глава девятая, в которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием
Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.
А стал первым на счету девичьей радости.
Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.
От нее, от сини, светлела жизнь.
Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже язвочками десны, изредка выходила на берег высматривать, не закрылится ли косым лётом ожидаемый парус.
Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалась в свой угол на нарах, жалась, ластясь, к поручиковому плечу. Слушала.