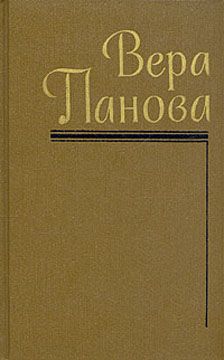Владимир Христофоров - Пленник стойбища Оемпак
Кондратьевна все постукивает пальцем по клеенке, словно отдельным от руки крючком:
— Зыринка, та за Баб-карьером произрастает…
Все вроде бы невзначай опять кратко взглядывают на бабку Глазливую.
Я лежу на пахучей овчине, ощущаю всем телом нутряное тепло русской печи. Она, протопленная днем, медленно остывает. Полати кажутся широкой спиной большого и доброго животного. Мальцом я карабкался сюда под ласковое и успокаивающее тепло бабушкиного тела. И тепло это было неотделимо от тепла самой печи.
В ногах под потолком всегда висели пучки разных трав. Я не помню, чтобы ими пользовались. Маленькие желтенькие цветочки от прикосновения хрупко рассыпались, теряясь крошками в лохматых завитках овчины. Они создавали особый, еле уловимый аромат терпкости и домашнего очага. А еще пахло испеченным хлебом и румяными булочками, посыпанными корицей, густыми мясными щами, шанежками из творога, тыквенной кашей, прокаленными днищами чугунов и противней, подгоревшими валенками и бельевой вываркой.
Сейчас печь источает густой и сытный запах бабушкиной горошницы.
Задвижка дымохода служила отцу хранительницей папирос и одновременно пепельницей. Тайком я как-то попробовал табаку, и меня, задохнувшегося от кашля, стащили с полатей, чтобы выпороть. Вторично это случилось, когда я столкнул кота в квашню с тестом.
Летом печь затапливалась редко: либо просушить избу после дождей, либо в грибную пору. Три дня под теплыми кирпичами, в самом чреве печи сохли в чугунках с песком нанизанные на остроконечные палочки отборные белые грибы.
Убаюкивающе тикают старинные ходики. Проснулся и неуверенно стрекнул пожилой сверчок, наш вечный домосед. Я дремотно разглядываю сверху нашу кухню и сидящих, кто где, старух. У каждой, впрочем, свое излюбленное место. Кондратьевна всегда сидит по левую сторону стола, возле окна. Напротив — бабка Калина. Глухая Липа, привалившись спиной к печи, что-то вяжет из распущенной старой кофты. Бабке Лампии больше по душе бабушкин сундук, а в ногах, у порога, не любимая всеми Глазливая. Ну а моя бабушка на одном месте не сидит.
Мой взгляд скользит, не задерживаясь, по привычным сызмала предметам и вещам: засиженной мухами картине «Меншиков в Березове»; деформированному черному кругу громкоговорителя, который, сколько я помню, вещал с простуженной хрипотцой; резной и всегда пустующей полочке с приклеенными ракушками; отрывному календарю — каждый сорванный листок прочитывался отцом вслух; небольшому буфету с треснувшим стеклом; мятому самовару…
Разве мог я тогда подумать, что спустя четверть века буду мучительно восстанавливать в памяти, словно крайне необходимое, все подробности обстановки нашего дома? Многое я бы сейчас отдал, чтобы иметь у себя в современной квартире хоть осколок, кусочек тех вещей, которые были частицей нашего дома!
— О господи! — всплескивает руками Глазливая. — Память-то совсем никудышная. Белье-то у меня все висит, а уж темно… Кабы кто не снял…
Она поднимается, нерешительно переступает у порога, все еще надеясь на предложение остаться. Но все молчат. Решает слово моей бабушки.
— Сымешь белье — приходи есть горошницу.
— Уж и не знаю, приду ли… Ну, я побегла, ненароком кто сымет белье.
Ушла.
— Придет, придет! — хрустнула спиной Кондратьевна. — Знаю я эту ерефелку, не белье ее сманило, к Марье Наумовне, слышала, сын с невесткой приехал. Как же, надо и там побывать! Завсе перебегат из дому в дом туды, сюды, везде тараторит, того да другого перешевернет. Злокоманка этакая!
— Чего уж на нее серчать-то теперь, — говорит примирительно бабушка. — Одна ведь, как есть одна.
Бабка Лампия подается всем своим грузным телом вперед:
— А кто виноват? Сама и виновата. Невестка-то ай хороша девка была. Ан нет, измытрафырила всю: то не так, это не так. Засудачила вконец перед всем миром. Вот и сбегла с муженьком куда глаза глядят.
Кондратьевна стучит в нетерпении пальцем-крючком по клеенке и уже собирается с духом рассказать «всю как есть правду» о своей скотинке, но неожиданно вступает бабка Липа. Из-за своей глухоты она имела привычку внезапно встревать в разговор, и, конечно же, совершенно невпопад. Но тут она по лицам сидящих уловила содержание разговора и решила внести свою посильную лепту:
— Бабы, вот мой крест! Третьеводни курочка моя ненароком заскочила в ограду к Глазливой. Тащу я ее, окаянную, а она квохчет и квохчет, аж у самой что-то вот тут нехорошо сделалось. Ну и что вы думаете? Поутру-то курочка снеслась посередь улицы. Яичко мягкое такое, да двужелтячное. Быть, девушки, беде!
— А ты бы с курочкой, как только ее выводила от Глазливой, да обошла бы три раза вокруг ее дома, и дело с концом, — кричит в ухо Липе моя бабушка… — Говорят, от живоглазья помогает шибко.
— Кабы знать, Матвеевна…
Бабка Калина, светло и озорно постреливая своими все еще красивыми глазами над припухшими смуглыми скулами, доверительно и быстро тараторит:
— От живоглазья, девицы, другое есть средство — вернее самого верного. Есть на свете остров, на острове камень, в камне заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце желток, в желтке каменек. Это и есть сглазу смерть. Взять каменек да проглотить в вечерок.
— Двужелтячное, и я говорю, — утвердительно кивает Липа.
Калина мягко смеется:
— Ну тя, бабка, не про то разговор.
— Каменек тот да моей Ноченьке. А молоко-то было густо-густо, а на сметане — жарь, не хочу, без всякого масла, — пытается свернуть разговор в нужное русло Кондратьевна. А чтобы не перебили, громогласно и сурово начинает: — Это, девицы, еще Ночка жива была. Приносит Глазливая мне как-то свою собачонку — пущай, грит, Кондратьевна, поживет у тебя с недельку, я, грит, к сыну — туда и обратно — не задержусь, значит. Что сказать? Пущай живет собачонка, не объест, чай. А вышло? Возвращается Глазливая от сына, собачонку, ясно, к себе, а та — на-кась, вертается ко мне ночью да так жалобно скулит, аж сердце разрывается. Я ее — туда, она опять ко мне… Так и прижилась. По правде, и я-то к ней попривыкла, ничего собачонка, ласковая, не пакостная. А все одно — приворожила, значит, к моему дому, не нужна стала собачонка…
Бабушка, толкая ухватом чугуны, утробно проговаривает в печь:
— Лиху-то она тоже хватила, сердешная. Чего уж теперь… Всех скоро приберет бог…
— Лиху — не лиху, — разгибается Кондратьевна, но уже без хруста в спине, — а гулеванька по молодости была, свет такой не видывал. Выпьет с полведра и проспит до утра. И все ей знакомы: и зустречны, и поперечны… А мы детей ростили, за скотинкой ходили, мужей обстирывали… От зари до зари, бывало, не разогнешь спину, то-то вон сейчас и ломает. А она, знай, только мужниными деньгами клочить да по чужим дворам ходить…
— Бог простит! — снова пытается заступиться за Глазливую моя бабушка.
Какой-то посторонний звук, напоминающий дребезжание листового железа, выводит меня из сладкой дремоты. Репродуктор, хрипнув, прокашливается и простуженным голосом начинает вечернее вещание:
— Съезд архитекторов Эстонии. Хиросимская трагедия не должна повториться… Итоги Женевского совещания глав правительств четырех держав… Освобожденные советские моряки танкера «Туапсе» выехали на родину…
В репродукторе опять верещит, словно на птичьем базаре. Бабушка потянулась к «тарелке», что-то там крутит. Диктор, будто прочистив горло, снова говорит, правда, с некоторой дрожью в голосе:
— Нью-Йорк. В американской печати появились сообщения о планах запуска в верхние слои земной атмосферы сверхвысотных летательных снарядов. Печать называет их «искусственными спутниками Земли», «сателлоидами»…
— Евона куды замахнулись, антихристы, — комментирует сообщение бабка Лампия. — Мой-то старшой, который на ироплане летает, сказывал, скоро к звездам направят людей.
— Не ходи, конда, в пенду! — наставительно и непонятно проговаривает бабка Калина.
— Чего, чего? — Я выглядываю из-за дымохода.
— Не ходи, конда, в пенду, — повторяет с лукавой улыбкой Калина.
— Что за конда и… пенда?
— Загадка така, сынок. Кот, не лезь в печь…
— Ну и загадка. Армянская, что ли?
— Зачем армянская? Наша, московская. От бабки слыхала: не ходи, конда, в пенду: в пенде канда проклянда.
Кондратьевна громко вздыхает:
— Проклянда не проклянда, а зустречь прогерсу, девушки, нету никаких препятствий. Это не сглаз. Иропланы летают, машины под носом шмыгают, поезда дудолят… Белый свет иным делается.
— …В Хиросиме открылась Международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия, — сообщает радио.
— Войны бы хоть не было, — говорит печально бабушка, помешивая ложкой в чугунке.
— Война от жадобы, — определяет Лампия.
Глухая Липа с мучительным сосредоточением на лице вслушивается в разговор подружек, стараясь ухватить хоть одно слово. Она даже одно ухо выпростала из-под платка и часто-часто моргает белесыми ресницами.