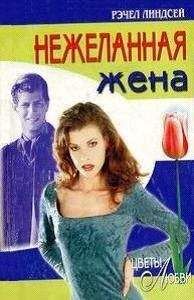Андрей Черкасов - Человек находит себя
Авдей Петрович работал на одной из мебельных фабрик столицы, жил вместе со своей внучкой, девятнадцатилетней Настей, пошедшей по стопам деда; она работала фрезеровщицей на той же фабрике.
Настя домой пришла поздно. Она оказалась на редкость веселой и общительной девушкой. Несмотря на несколько более широкий, чем ей хотелось бы, нос и не в меру полные губы, она несла в себе неповторимое обаяние молодости, которой дышало и ее доброе лицо, и постоянно веселые, голубые, как у деда, глаза.
Девушки сразу подружились. Настя тут же пожелала уступить свою кровать, но Таня наотрез отказалась. Первый московский ее ночлег состоялся на сундуке под ковриком с оленями…
Утром началось знакомство с Москвой. С вечера получив «инструкцию» от Авдея Петровича насчет возможных маршрутов и способов отыскания своего переулка, Таня поднялась чуть свет и вышла из дома.
Прозрачное и чуть розоватое утреннее небо окрашивало город в легкие теплые тона. Нежные отсветы ложились на стены домов, на мостовую. Долго ходила Таня по Красной площади. Смотрела на мавзолей, на рубиновые звезды кремлевских башен. Чудные кремлевские звезды, не виденные еще никогда в жизни, но жившие рядом постоянно, с первых сознательных лет ее детства, теперь были здесь, близкие, сияющие, несмотря на слепительный свет неба. Снизу они казались невесомыми и, если долго смотреть, как будто летели над головой, и куда-то далеко-далеко, но не улетали, оставались здесь, с Москвой, с Таней… Единственные и, притом, земные звезды, которые светят и днем!..
В сознании ее в эти минуты тесно сливались в одно несколько памятных строчек отцовского письма и слова солдата, подарившего ей табакерку…
Таня до вечера бродила по Москве, ездила в метро. Побывав в трех нотных магазинах, накупила нот, давным-давно знакомых на память, лишь бы поиграть на рояле здесь же в магазине, будто для пробы; без музыки она не могла прожить спокойно ни одного дня… Не раз успела заблудиться. В свой переулок попала поздно и с другого конца.
Авдей Петрович встретил ее вопросом:
— Ну, потеряшка, раз десяток заблудилась, наверно? — и услышав в ответ, что всего только «три разочка», удовлетворенно заявил: — Ну, молодец! Годишься, значит, в москвички!
До приемных экзаменов в консерваторию оставалось еще несколько дней. Таня жадно знакомилась с Москвой. В нотные магазины она ходила каждый день, покупала ноты, «пробовала» их здесь же, иной раз даже забыв перевернуть страницу. Она постоянно опасалась, как бы не раскусили продавцы ее маленького плутовства. За рояль всякий раз усаживалась с опаской: «Наверно, уж приметили, что вот каждый день повадилась нахальная девчонка бренчать на рояле…» С тревогой вглядывалась в лица продавцов, но ничего не могла прочитать, кроме узкопрофессиональных забот. И продолжала свои «музыкальные покупки».
Один из дней выдался дождливый. Оставшись одна в квартире, Таня стала разбирать книги на этажерке. Наткнулась на «Северную повесть» Паустовского, полистала… Книга сразу понравилась. Начала читать и не могла оторваться.
Читала до прихода Авдея Петровича. Внимание ее привлекло одно место: столяр Никитин полировал книжные полки на квартире всемирно известного писателя («наверно, у Горького…» — подумала Таня) и, показывая ему великолепие красного дерева при свете обыкновенной свечи, вспоминал слова о музыке из пушкинского «Моцарта и Сальери». А писатель («ну конечно же, Горький!») привел в комнату каких-то людей, показывал им чудеса необыкновенного дерева и говорил о «прелести настоящего искусства — будь то литература или полировка мебели».
«Значит, если человек очень любит свой труд, ему в работе музыка может слышаться!» В этом было что-то напоминавшее разговор в комитете комсомола еще давно, когда получала комсомольский билет.
Таня поделилась мыслями с Авдеем Петровичем, вызвав его этим на разговор о том, на что из семи его отшумевших десятков ушло без малого шесть, о большом искусстве столяра-мебельщика.
Авдей Петрович сидел за столом, сцепив руки и немного наклонив голову. На лысине его, сбегая к виску, вздувалась синеватая жилка.
— Взгляни, — говорил он, указывая на шишкинские «Сосны», — вот художник деревья изобразил. Хорошо изобразил, слов нет, проник в природу. Только вся ли красота здесь? В том и дело, что нет — только самые ее вершинки! А внутрь, в сердце дерева ни один художник еще не проник. А красота в нем особенная тем, что показывать ее надо такой, какая она есть, без всяких прикрас, а то испортишь только… Ну и суди сама, насколько велика красота, к которой ничего и прибавить нельзя. Она и есть самая большая на свете! Красивей ее не сделать, а вот сильней показать можно. Над этим и трудимся мы, столяры, те, разумеется, которые свое мастерство уважают…
От Авдея Петровича Таня узнала совсем необыкновенную новость. Оказывается, в каждом дереве есть душа, не такая, как в человеке, а особенная, до которой добраться можно только через мастерство и талант, да еще через мозоли на руках…
— Мне, конечно, до такого таланта далековато, — вздыхал Авдей Петрович, — хотя и умею кое-что, и мозолями не обижен.
Он повернул свои руки ладонями кверху, долго смотрел на них. Потом сказал: — Дай вот сюда твою руку для сравнения.
Таня протянула руку. Он снисходительно улыбнулся, увидев ее мягкую ладонь и длинные тонкие пальцы.
— Вот и у тебя, и у меня искусство, а скажи-ка ты мне, годится в вашем деле такая лапа, вроде моей?
Таня пыталась представить себе, как бы зазвучал, скажем, шопеновский этюд или вальс под пальцами Авдея Петровича, кряжистыми, пропитанными политурой и покрытыми множеством мозолей. Рядом с его огромной ладонью ее рука напоминала рябиновый листок, упавший возле тысячелетнего дубового корневища…
— Видишь, к каждому искусству руки свою пригонку должны иметь, — сделал вывод Авдей Петрович. — Кому рояль, кому клеек с политурцей… Только все одно другому родное. Потому тот столяр, про которого Паустовский написал, во время полировки и вспоминал про музыку…
На вопрос Тани, почему полированное дерево оживает при свечах, старик ответил: оттого это, что в свечке большой секрет есть — свет у нее особенный. При нем каждое волоконце древесное свое нутро обнаруживает, особую игру дает, не видную при прочем свете. Полировка только при тонком слое хороша, зажигает она дерево, толстая — гасит. Как натащил лишней политуры, так словно дымом всю красоту затянет: жилочки, волоконца — все потускнеет, умрет вроде бы, а свечной огонек сразу подскажет, когда довольно… Это исстари повелось. Раньше столяр сутками работал: с огнем начинал, с огнем кончал и работу проверял при свече. Нету ни царапинки, ни волоска, ни единого тусклого пятнышка — добро отполировал; мутное, волосатое отражение — никуда не годится!.. Я так же вот работу сдавал: поставит хозяин свечу и елозит глазом. Сам стою — душа в пятках. Найдет к чему придраться — берегись, Авдюха!
Авдей Петрович увлекся и начал рассказывать о том, как работал с самых молодых лет в Москве у Федотова, что на Шаболовке. Сперва в подмастерьях, после выбился в мастеровые…
— По струнке у хозяина мы, молодые, тогда ходили. Спать и то домой не пускал, под верстаками на стружках укладывались. Так и говорил нам: «Какой из тебя мастер получится, ежели ты дома в постели нежиться будешь? Столяр все равно что солдат!..» И ничего, так и спали в стружках. Я за всю-то жизнь насквозь деревянным духом пропитался…
Под конец разговора Авдей Петрович пожалел о том, что нынешняя молодежь не тянется к мебельному искусству и, должно быть, считает обработку дерева неблагородной специальностью.
— У самого шипы в гнездах расшатались, глаза открываться и закрываться со скрипом стали, да и руки повело на манер косослойной доски, а разряд свой передать некому. Коротка жизнь! Только под старость узнаешь, до чего ж ты мало в ней успел, так хоть бы другим наказать, чтобы до самого красивого слоя дострогали. Жаль вот, что свою судьбину до последней стружечки дострагиваю. Завьется колечком и… политурцей можно накрывать, — с полушутливой и какой-то очень светлой печалью заключил он и спрятал в бороду чуть заметную улыбку.
Неожиданно Авдей Петрович поднялся и заходил по комнате. Брови его нависли, глаза заблестели. Он говорил энергично, хотя по-прежнему неторопливо, и обращаясь уже не к Тане, а, наверно, ко всем, кого не было в комнате. Говорил о том, что вот бы поручили ему, Авдею Аввакумову, «пока совсем не рассохся», организовать такую мебельную «консерваторию», из которой не музыканты бы выходили, а настоящие мебельные мастера — художники, такие, чтобы своими руками могли оживить дерево, докопаться до самой его души. Вот тогда бы и началась настоящая мебель. А то что такое, в конце концов, коммунизм начинаем строить, а доброй обстановки в квартиру купить негде! Добро бы фабрик не было, так ведь в том и дело, что есть где ее, мебель, делать! А что делаем?..