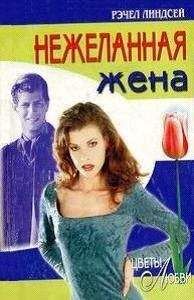Андрей Черкасов - Человек находит себя
Вечером Таня долго читала Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною…». Еще и еще перечитывала она эти строки. Известные и прежде, они сегодня почему-то обрели иное звучание… «И сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может…»
— Не любить оно не может… — шепотом несколько раз повторила Таня, закрывая книгу и зажмуривая глаза.
Уже перед самым рассветом она поднялась и, усевшись на подоконник, отыскала в небе свою звезду. Она горела по-прежнему ярко. Небо казалось зеленоватым, В его светлеющей глубине неожиданно сорвалась и полетела к земле чистая, как слезинка, другая, маленькая, но очень светлая звездочка.
Верная давней привычке детства, Таня успела задумать что-то очень важное, пока падала звездочка. «Как быстро она сгорела, — подумала Таня. — Это, наверно, как в сказке: Георгий тоже обо мне подумал, и звездочка упала…».
Прислонившись головой к косяку, Таня долго смотрела туда, где только что исчез чудный огонек. Все больше светлело небо над крышами дальних домов, а Таня все сидела, закрыв глаза, и думала, думала…
Милая, чудесная юность, ты сама похожа на сказку! Кто посмеет упрекнуть тебя в ребячестве или суеверии, когда загадываешь ты свое счастье? Упала ли на твои ресницы росинка с кленового листка, прицепился ли малюсенький паучок к твоим волосам, по недоразумению приняв их за готовую паутинку, кукушка ли прокуковала под твою задумку, упала ли на заре светлая звездочка с неба — все это говорит с тобою на вечном и мудром своем языке, когда не находится меры твоему завтрашнему счастью, когда не находится никаких человеческих слов, чтобы понять и выразить всю тебя!
Юность так похожа на белую ночь. Детство кончилось, ты не знаешь когда. Свет его еще здесь, рядом, но что-то переменилось. Легкий прозрачный сумрак повис над тобой; над ним — звезды и отблески солнца на облаках; все вокруг видно, но во все надо всматриваться, все кажется прекрасным и легким, таким, что и дотронуться будто бы ни до чего нельзя. А на сердце так хорошо, так радостно! Потому что ты знаешь: там, впереди, разгорается твой завтрашний свет, твое солнце, молодость и вся твоя необъяснимо большая и такая… короткая жизнь!
В те далекие дни Тане верилось, что искусство музыки окончательно стало ее судьбой.
На рассвете не думается про ночь, на исходе весны забываются снежные бури февраля. Так уж устроен человек, что он видит впереди только светлое, видит и верит в него. Верила и Таня.
6Музыкальную школу в Новогорске Таня кончила семь лет назад, в 1948 году. Стоял жаркий уральский июль с прохладными вечерами и яркими зорями.
Окна интерната выходили на запад. Из них были видны старые липы. За липами малиновым светом горели закатные облака. Они предвещали сильный ветер и… большое счастье. Таня сидела на подоконнике, пока облака не погасли. Небо за ними еще алело и истекало огнем. Где-то там, далеко за видимым краем земли, была Москва… консерватория… все остальное, загаданное давным-давно… Скорей бы туда!
А до отъезда еще так далеко. Целая ночь и… половина дня!
Уже в сумерках Таня ушла в городской сад; там где-то были подружки, с которыми не пошла вначале: хотелось помечтать одной.
Подруг Таня не разыскала, но в одной из аллей встретила Ваню Савушкина. Он обрадовался так, будто только и ждал этой встречи. Вместе пошли по дорожкам сада, и Савушкин все время сворачивал на те, где гуляющих было меньше. Он то и дело пробовал взять Таню под руку, и вид у него был такой, словно он хочет сказать что-то очень важное.
Ваня поглядывал на счастливое Танино лицо, собирался с духом и… молчал. Таня осторожно высвобождала руку, и они все шли, шли…
Потом стояли на берегу пруда. В темной воде отражалось звездное небо. Таня про себя повторяла пушкинские строки: «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною… И сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может…».
«Не может!..» — повторяла Таня одними губами, и из головы не уходил образ Георгия. К запомнившимся с детства черточкам мечта прибавляла все, что приносит с собою время и возраст. «Помнит ли он меня? — думала Таня и тут же решала: — Конечно, помнит!» Она невольно сжимала Ванину руку.
— Как хорошо! Правда?
— Что хорошо? — не понимал он.
— Жить! — радостно говорила Таня и смеялась.
А глаза у Савушкина были грустными. Всю ночь он проворочался с боку на бок и уснул только под утро. Ему приснилось, что он рассказывает Тане о том, что так долго носил в себе, но слова совсем не те, и она не может его понять, а он говорит, говорит… и все не то, все не то…
На другой день он провожал Таню в Москву. Пришли и подруги. Они очень кстати поручили ему подержать предназначенный Тане букет душистого горошка. Поезд тронулся. Таня стояла в дверях вагона и держала цветы у самого лица. Ваня дольше остальных шагал рядом с вагоном и видел только Танины волосы, глаза и цветы. Она была в сером платье. Такою он и запомнил ее тогда. Потом долго еще бежал за поездом…
Через неделю свершилась и его мечта: военкомат направил его в военную школу.
В вагоне Таня выронила из букета записку: «Я давно хотел сказать тебе, Таня, только смелости не мог набраться. На бумаге не так страшно. Но надо бы все сказать одним словом, а я не решаюсь, хотя без него получается длинно… В общем, вот я о чем. Если когда-нибудь понадобится тебе рука друга, когда, может быть, придется трудно и понадобится такой человек, который жизни для тебя не пожалеет, ты скажи! А я буду ждать, ждать… если нужно, то пусть даже долго… И это правда, Таня! Самая чистая правда, и слово мое самое твердое. Иван».
«Бедный, хороший мой Ванек, — подумала Таня, — разве я виновата, что ничего тебе не могу сказать? Не могу и, наверно, не смогу никогда…»
Она открыла свой чемоданчик. Придерживая рукою крышку, достала томик Пушкина. Он открылся на заветной страничке с любимыми стихами, заложенными фотографией матери, которую в войну увезла с собой. Рядом с нею Таня положила записку.
«Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою…» — украдкой шепнул ей Пушкин. Таня закрыла глаза. Из розовой мглы ей улыбнулось лицо Георгия…
Москва встретила Таню гостеприимно. Город заветной мечты, любимый с детства, бережно провел ее через суету своих улиц, провез в метро… Письмо в синем конверте, адресованное директором детского дома его старшему брату, Авдею Петровичу Аввакумову, привело Таню в один из запутанных переулков. Каменная лестница подняла ее на третий этаж, Авдей Петрович сам открыл дверь… Таня вошла в его квартиру, состоявшую из единственной комнаты в два окошка. Авдей Петрович прочитал письмо. Брат просил согласия на «временное проживание» у него «воспитанницы детдома Татьяны Озерцовой, которая после поступления в консерваторию сможет перейти в студенческое общежитие».
Прочитав письмо, хозяин комнаты сдвинул очки на кончик носа и просто сказал:
— Ну что ж, живите, если по душе моя «скорлупа». — Над его добрыми голубыми глазами внушительно клубились густые белые брови…
И Таня поселилась у Авдея Петровича.
Это был, несмотря на свои семьдесят лет, довольно крепкий старик с небольшой прямоугольной бородой и седыми курчавыми волосами, плотным полукольцом облегавшими глянцевитый купол лысины. Таня заметила одну особенность его лица: глаза были ласковыми и постоянно смеялись, а брови казались сердитыми, даже грозными, Роговые очки, которыми Авдей Петрович пользовался для работы и чтения, тоже имели особенность. Оглобли их были так замысловато изогнуты в разные стороны, что когда он утверждал на носу эту хитрую оптику, в правое стекло смотрелась грозная мохнатая бровь, в левое — часть щеки и нижний краешек смеющегося глаза, и все это при сильном увеличении…
Имела особенности и квартира Авдея Петровича, которую он называл скорлупой. Не очень тесная и не слишком просторная, комната была обставлена простой, уже изрядно потертой мебелью, необъяснимое исключение среди которой являла посудная «горка» из какого-то необыкновенного дерева, отполированная до зеркального блеска. Она сразу привлекла внимание Тани нарядным видом. Остальные особенности вернее было бы назвать обыкновенностями, К их числу относился и предложенный Тане стул с расклеившейся на сидении фанерой. Казалось, своим видом он подтверждал правоту древней ремесленной мудрости о «сапожнике без сапог». На стене висели репродукции шишкинских «Сосен», несколько семейных фотографий, ходики, страдающие одышкой… Один угол комнаты был отгорожен ширмой и служил хозяину опочивальней. У стены стояла чистенько прибранная кровать с кружевным одеялом и накидками — следами девичьих рук. Перед нею — этажерка со стопкою книг, посредине — массивный стол на точеных ножках, а у дверей большой старинный сундук и повешенный над ним вышитый коврик с оленями и лимонно-желтой луной.