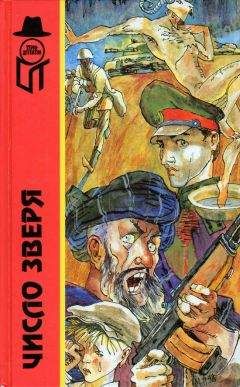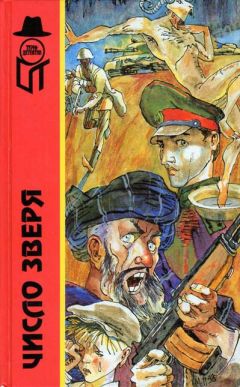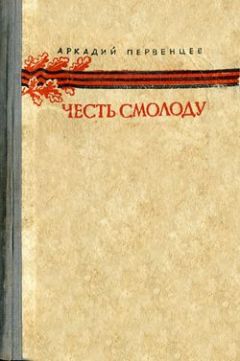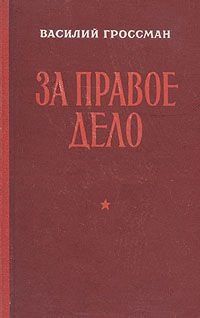Гумер Баширов - Честь
В это время прибежал мальчишка из бригады Юзлебикэ.
— Тимергали-абзы, там тебе бумага пришла.
— Какая бумага? Где?
— У Юзлебикэ-апа. Она хочет тебе сама передать, из военкомата, что ли...
— Пожалуй, килен, можно и заканчивать, — повернулся Тимери к Нэфисэ и не торопясь пошел вслед за мальчиком.
В сгустившихся сумерках стало трудно различать уже пройденные полосы, и Гюльсум зажгла фары. Два ярких, с лунной просинью луча, прорезав темноту, протянулись к лесу через весь Яурышкан. Нэфисэ пошла узнать у Гюльсум, долго ли еще будет она работать.
— Пока Чулпан[24] не поднимется! — не то всерьез, не то в шутку крикнула Гюльсум.
Бригада Нэфисэ собралась на полевом стане. Лошадей загнали в стойла-времянки, сбрую убрали, и все начали сходиться к костру. Видно, только что закончила трудовой день и бригада Бикмуллы: кто распрягал коней, кто умывался.
Несколько женщин стояли у бригадного домика и переговаривались, поглядывая на Нэфисэ. Они были чем-то опечалены.
Обеспокоенная Нэфисэ шагнула к Мэулихэ.
— Что это все носы повесили?
Мэулихэ сидела у костра и, закрыв фартуком рот, тихо плакала. В последнее время не было писем от ее сына. Неужели опять горькая весть?
Нэфисэ присела на корточки возле нее.
— Милая Мэулихэ-апа, что с тобой?
— Ох... Нэфисэ, — проговорила с трудом Мэулихэ и стала вытирать слезы.
Что-то странное почудилось Нэфисэ. Страшное предчувствие сжало ей горло, и она, побледнев, схватила за руку стоявшую тут же Айсылу.
— Айсылу-апа! Почему вы все молчите? Скажите же, не томите!
Айсылу с трудом подняла голову. На лице ее была глубокая печаль.
— Язык у меня не поворачивается, Нэфисэ... милая... — сказала она. — Иди домой, умница, иди...
Нэфисэ стояла у костра, не в силах произнести ни слова, затем, как-то вся сникнув, медленно двинулась в темноту.
6
Хадичэ вышла за ворота встретить скотину. Издали уже доносилось мычание коров и блеяние овец.
В палисаднике, широко раскинув ветви, стояли рябины и черемухи. «Уже распускаются», — подумала Хадичэ и, закинув голову, посмотрела вверх на скворечник, прибитый высоко на шесте.
В соседнем дворе слышался веселый ребячий гомон: там на время посевной открыли детский сад. На крылечке с вязаньем в руках сидела няня, а ребятишки, позабыв обо всем на свете, скакали через веревочку, играли в черепки, пекли лепешки из глины. Несколько пар больших детских глаз с доверчивой улыбкой смотрели на подошедшую к ним Хадичэ. Она знала, что некоторые из них уже осиротели, и, взволнованная, потянулась к ним; она гладила их пушистые головки и за себя и за отцов, погибших на фронте.
— Играете, птенчики? Играйте, играйте, крошки, золотые мои!
В воздухе начало парить. Сизая туча, поднявшаяся над лесом, стала надвигаться на деревню. Над площадью, где стоял клуб, то стремительно падая вниз, то взмывая к небу, тревожно носились ласточки. С запада подул теплый, душный ветер. И вот на крыши домов, на дорогу упали первые крупные капли. Дети обрадованно захлопали в ладошки и закричали:
— Дождик, дождик, пуще!..
Вдруг невесть откуда налетел порывистый ветер, зашумел в ветках деревьев, просвистал в щелях заборов, захлопал калитками. Пошумев, поозоровав, ветер бесследно исчез. На улице стало совсем темно. Бурые взлохмаченные тучи, громоздясь друг на друга, обволокли все небо.
Няня, словно наседка, собрала вокруг себя ребятишек и повела их в избу.
Хадичэ уже загоняла корову в калитку, когда из переулка, изо всех сил гоня лошадь, выскочил Ильгизар,
— Сынок, зачем так гонишь? — закричала Хадичэ. — Ведь конь целый день работал!.. Домой чего рано явился?
Ильгизар соскочил с телеги и привязал коня к кольцу у ворот.
— Джинги меня послала, — объяснил он. — Завтра Гюльсум-апа начнет сеять. Надо семена с вечера привезти, чтобы завтра не задерживаться... Мама, а нам письмо есть, вот!..
Ильгизар вытащил из кармана синий конверт. Хадичэ просияла вся.
— Неужто, сынок? Ай, спасибо. Наверно, от брата...
— Не знаю, мама, не читал еще...
От радости Хадичэ забыла даже загнать корову в хлев.
— Ну, конечно, от Газиза... Благослови его бог. Давай прочитаем. Ой, сынок, живой, значит... А я-то чего не передумала. Слава богу, здоров! Радость-то какая...
Ильгизар повертел в руках конверт. Его смущал незнакомый почерк, которым написан был адрес. Он хмурил брови, глядя то на письмо, то на мать.
А Хадичэ, взволнованная, бегала из одной половины горницы в другую, не зная, за что и взяться. Неведомо зачем она вдруг принесла в избу пустой глиняный горшок. Потом в ее руках оказалось длинное вышитое полотенце. Сама не понимая, к чему оно ей понадобилось, Хадичэ повертела его в руках и растерянно села на стул.
— Голова у меня кругом пошла. Ах, сынок...
Увидев, что Ильгизар собирается надорвать конверт, она быстро остановила его:
— Постой, сынок, не спеши! Это тебе не из какого-нибудь Аланбаша. Письмо с поля боя, где сражаются насмерть... Ты поешь, проголодался, поди.
Хадичэ живо сбегала во двор, загнала корову в хлев и умылась.
— Кыш-ш, бестолковый! Куда ты, на ночь глядя! — согнала она ласково гусака, забравшегося на крыльцо. Она не могла бы сейчас рассердиться ни на кого.
— И-и, дитя мое, нашел-таки время, ото сна отрывался небось, когда писал... — говорила Хадичэ и, быстро двигаясь по комнате, затворила хлопавшее на ветру окно, выключила репродуктор, напевавший какую-то песенку. И только после этого она села у окна, заправила за уши платок, чтобы услышать дорогие сердцу слова.
— Посмотри, сынок, внимательнее, не килен ли это письмо? — спросила она.
— Нет, папе, — ответил глухо Ильгизар и надорвал конверт.
Хадичэ мельком взглянула на хмурое лицо Ильгизара, но все внимание ее было сосредоточено на конверте.
— «Уважаемый Тимергали-абзы, Хадичэ-апа и верная подруга Газиза...» — прочитал Ильгизар.
Хадичэ оторопело протянула обе руки к письму и отдернула их обратно.
— Погоди, дитятко... От кого же оно? Что это?.. — Она задыхалась. Но, видно решив покончить с сомнением, прошептала: — О, аллах... тебе вручаю... Читай, Ильгизар!
— «...Мы долго мучились, не зная, как начать это письмо. Руки не брали пера, не было слов... Опустела наша землянка. Еще утром нас было трое, а сейчас вот только двое. Потому и пусто у нас в землянке, потому и неуютно...
Дорогие наши! Вы близки нам, словно родные. И мы верим, что в дни тяжелых испытаний будете стойки, как стоек весь народ нашей отчизны. Наш друг Газиз, который был нам дороже жизни, с которым спали под одной шинелью, с которым делили каждый кусок, — наш комиссар Газиз, геройски сражаясь за великую Родину...»
Голос Ильгизара осекся, губы задрожали, и он, вскрикнув, упал головой на стол.
— Мама, брата убили!
Хадичэ побелела. Судорожно выпрямившись, она ощупывала бессильными трясущимися пальцами край стула. Старчески опущенные углы рта дрожали скорбно и жалко. С посиневших губ чуть слышно срывалось:
— Ой, сынок мой! Ой, дитятко мое! Ой, сердце мое!..
Хадичэ протяжно застонала. Она не могла плакать.
Казалось, душившее ее горе иссушало до дна слезы, и если она сейчас заплачет, то — кровью, а не слезами.
Ильгизар не в силах был поднять головы и плакал навзрыд, повторяя: «Абы, абы...» Его детское сердце, еще не испытавшее настоящего горя, теперь, когда оно безжалостно обрушилось на него, билось, будто птенчик, попавший в силки.
Они не слышали, как скрипнула дверь и в горницу вошли Тимери и Нэфисэ.
— Мама!..
Горький оклик невестки больно рванул материнское сердце и вернул к жизни Хадичэ. Она потянулась к Нэфисэ дрожащими руками, и на глазах ее показались первые слезы.
— Доченька, милая... Осиротели мы... — простонала она и заплакала, всхлипывая, как ребенок.
Нэфисэ хотела что-то сказать, но подступивший к горлу комок не дал ей выговорить и слова. Прижавшись друг к другу, они молча плакали.
Тимери быстро подошел к столу и судорожно схватил письмо, но тут же выронил его и шагнул к старухе.
— Перестань, мать, прошу тебя, перестань...
Когда Тимери узнал в поле о гибели сына, он сразу не смог осмыслить происшедшее. Разум отказывался понять эту страшную весть, сердце не воспринимало такую несправедливость. Но слезы сострадания на глазах у посторонних женщин заставили его сразу побледнеть. Он кинулся немедля к лошади и помчался в деревню, словно мог предотвратить что-то надвигавшееся, неотвратимое.
Тимери любил Газиза не только как отец, в его чувстве к сыну было еще и огромное уважение: ведь Газиз по всему району слыл человеком и умным и ученым; к его мнению прислушивались не только здесь, в своих краях, но и повыше. И будущее вот этой родной земли Тимери связывал с именем Газиза. Старик был уверен, что сын прославит ее большими делами, ожидал, что и на фронте он отличится своими подвигами. Видно, потому он и не допускал мысли, что с сыном может что-либо случиться.