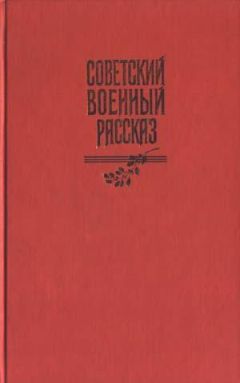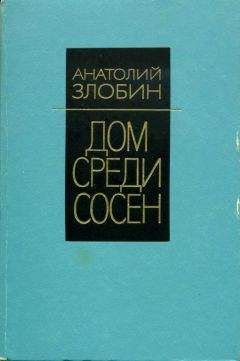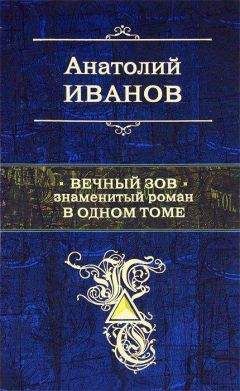Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
При словах «на нашем пути» Кружилин чуть шевельнул бровями.
— Ну, допустим, — проговорил он, когда Елизавета Никандровна умолкла. Проговорил как-то машинально, раздумывая не о том Полипове, которого знала она, а о том, которого знал он. И, только проговорив, опомнился: что он может допустить? На каком основании? Но слово было сказано, надо было продолжать. И Кружилин видел, что жена Антона ждёт продолжения. — Допустим… что всё это так, как вы говорите. Хотя я… Я не очень высокого мнения о Полипове, о его, если хотите, нравственных качествах. И всё-таки то, что вы говорите…
— У меня, повторяю, нет никаких доказательств, — сказала жена Антона сухо и резко. — Но они у меня будут. Я их достану.
Кружилин опять пошевелил бровями, спросил:
— Как? Каким образом?
— Не знаю. Но это мой долг. Перед памятью Антона. У меня хватит сил! Я не умру прежде, чем достану эти доказательства. Я должна! Обязана!!
Она проговорила это залпом, глаза её горели звериным зелёным цветом, ноздри шевелились. Изумлённому Кружилину на миг показалось, что перед ним не немощная, болезненная Елизавета Никандровна, а какая-то другая женщина, молодая и сильная, пропитанная насквозь каким-то невиданным фанатизмом.
— Елизавета Никандровна! — удивлённо промолвил он.
— Что — Елизавета Никандровна? — переспросила она, угрожающе подняв голову. — Я так решила. Понятно?!
Да, перед ним сидела неукротимая фанатичка. Это было невероятно, но это было так.
А потом такое ощущение у Кружилина прошло. Они помолчали с полминуты, может, с минуту — и перед Поликарпом Матвеевичем снова сидела слабенькая, бессильная Елизавета Никандровна. Она даже по-старушечьи как-то расправляла лежащее на коленях полотенце и тихо говорила:
— Давайте не будем… не будем больше об этом. Ах, боже мой, куда ушёл наш разговор? Но я не хотела, это как-то само собой. Просьбы-то у меня к вам, Поликарп Матвеевич, маленькие. Помогите… пусть с Юрия моего снимут бронь, пусть он пойдёт на фронт. А мне помогите устроиться на работу. Вот… какие две просьбы.
Кружилина поразили и первая, и вторая просьбы. Первая удивила несказанно. Он знал, как мучился Антон, что его сын, здоровый тридцатилетний мужчина, находится не на фронте, а тут, при нём, на заводе. Кружилин как-то заметил, что зря он, Антон, мучается этим обстоятельством, мало ли на заводе работает и тридцати- и сорокалетних мужчин, тут тоже фронт, снаряды должен кто-то делать. Антон Силантьевич на это ответил:
— Да, но он мой сын, сын директора… И людям не запретишь по этому поводу думать что угодно. Пойми моё состояние.
Савельев во время того мимолётного разговора, как припомнил сейчас Кружилин, немного помолчал, потёр большой свой лоб, точно хотел ладонью расправить собравшиеся на нём морщины, и добавил:
— Я бы давно отправил его на фронт, но Лиза… «Я, говорит, умру, не перенесу этого, во мне потухнет что-то, если его не будет рядом…» И потухнет. Она сошла с ума от пыток в белогвардейском застенке тогда, в восемнадцатом… Я до сих пор не могу понять, как она оправилась, что помогло ей вернуть разум. И знаю — он помутится снова, если Юрку отправить. Но и держать сына возле неё я больше не могу…
И вот Елизавета Никандровна вдруг сама просит отправить сына на фронт!
Он, не зная, что сказать, что ей ответить, сидел недвижимо, только отодвинул зачем-то подальше чайную чашку. Елизавета Никандровна молча встала, подошла к окну и, сложив руки на груди, стала глядеть на пустынную улицу, Обочины улицы заросли мягкой травой-конотопом, трава была мокрая от недавно прошедшего дождя, словно обсыпана искрящейся росой. Елизавета Никандровна долго глядела на горящие под солнцем зелёные лоскутья, молчала, губы её были сложены обиженной подковкой.
— Вы удивлены, видимо, — проговорила она наконец, не меняя позы. — Мне не объяснить, почему я так решила. Со мной… во мне что-то произошло. Словно какая-то пелена с глаз упала. Он — сын Антона и мой… Почему же он здесь, а не там… не в том пекле, где идёт смертная битва за то дело, за которое мы с Антоном боролись всю жизнь? Он, Антон, переживал, мучился, а я, старая дура, понять не могла…
Елизавета Никандровна опять всхлипнула, вернулась к столу, села.
— Вот… упала с глаз и открыла многое. И, знаете, во мне откуда-то… я не знаю, откуда… появились силы. Вы понимаете, Поликарп Матвеевич?
— Что же… Это можно понять, — проговорил он, потому что ничего иного сказать не мог.
Но Елизавета Никандровна вдруг отрицательно помотала головой.
— Не-ет. Этого понять вы не можете, невозможно. Как невозможно кому-то постороннему понять, что мне вернуло тогда разум… После тех пыток. А мне его Юрка вернул.
Кружилин, слушая это, размышлял, что с Елизаветой Никандровной действительно что-то происходит или произошло необыкновенное и что понять это до конца и в самом деле кому-то постороннему невозможно.
— Хотите, я расскажу… попытаюсь рассказать, как это произошло?
— Расскажите, — кивнул Кружилин.
Елизавета Никандровна помедлила. Её глаза были полуприкрыты, но Кружилин всё равно видел, как в них то разгорается, то притухает лихорадочный зеленоватый огонёк. Видимо, далёкое и зловещее прошлое возникало перед ней волнами, одна картина, вызываемая усилием памяти, тотчас уступала место другой, и Елизавета Никандровна выбирала, с какой начать.
— Нас арестовали вечером двадцать шестого мая 1918 года, в тот день и час, когда начался в Новониколаевске белочешский мятеж, — наконец начала она. — Меня, жену Митрофана Ивановича Савельева, Ульяну Фёдоровну, Митрофан Иванович — это дядя Антона. Я, как вышла замуж за Антона, так у них и жила… В тот день Антон ехал из Москвы, со съезда комиссаров труда. Он был избран томским губернским комиссаром месяцев пять назад, был, значит, делегирован на съезд, теперь возвращался в Томск и по пути хотел нас с Юркой забрать к себе. До этого мы с сыном жили в Новониколаевске, потому что квартиры в Томске пока у Антона не было. Ульяна Фёдоровна пошла нас проводить… Нас и арестовали всех прямо на вокзале. И Антона, едва он выпрыгнул из вагона и подошёл к нам… Опять, опять кто-то знал, что Антон возвращается из Москвы. И этот кто-то знал, что в этот вечер начнётся мятеж чехословаков! Знал! Поезд ещё подъезжал к станции, а Антона уже ждали… этот, Свиридов ждал. Был у нас такой в Новониколаевске. Он был комиссаром одного из красногвардейских отрядов. В прошлом Свиридов томский меньшевик, потом порвал с ними, перешёл к нам. Так мы считали. А на самом деле сволочь это была, обманул он всех нас. Иван Михайлович Субботин очень хорошо знает этого Свиридова. И Субботина он провёл. И вот со своим «красногвардейским» отрядом и пришёл нас арестовать. И Юрку тоже взяли. Я до сих пор помню, каким цветом горели глаза этого Свиридова, как вздрагивали тонкие крылья острого носа… А из-под кожаной фуражки торчал клок белёсых волос. Этот клок был мокрый от пота. Я помню, как он вяло и нехотя, будто зная, что никакая сила не в состоянии нарушить его приказ… и… наслаждаясь этим… сознанием этого, произнёс, глядя на Антона: «Взять его! Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай». Голос его помню… хриплый и пропитый. Он в ушах у меня всю жизнь стоит…
Елизавета Никандровна разволновалась, слабенькая грудь её быстро заходила. Она положила на неё руку, но это успокоиться не помогло, и рука тоже вздымалась и опускалась, а пальцы, бледные, словно восковые, подрагивали.
— Так, может, этот «кто-то», который знал о прибытии Антона, и был Свиридов, — осторожно проговорил Кружилин.
— Нет, — опять мотнула головой Елизавета Никандровна. — Нет… Откуда он мог? А Полипов знал…
Солнце всё било в комнату, только оно скатывалось уже к западу, лучи теперь не доставали до пола, солнечные пятна ползли по стене всё выше, стали захватывать потолок. Елизавете Никандровне это будто не понравилось, она взглянула на верх освещённой стены, нахмурила брови.
— Нас повели по тёмным и окраинным улочкам Новониколаевска в сторону городской тюрьмы, — продолжала она, отдохнув. — Откуда-то не очень издалека, из центра города, доносились выстрелы. Палили беспорядочно и часто. В северной части Новониколаевска стояло зарево, там что-то горело. Юрка, помню, шёл не хныкая, только всё прижимался к отцу. А у того руки в наручниках… Только Ульяна Фёдоровна всхлипывала… И вскоре втолкнули нас в тюремный двор. Боже! Там негде было повернуться… В Новониколаевске военных было не так много в том месяце. Несколько небольших отрядов красногвардейцев, да был ещё расквартирован в городе пеший эскадрон. И все почти военные были здесь, в тюрьме. Их захватили всех врасплох, многие были избиты, окровавлены. Кругом стоны, глухой говор. На тюремных вышках, помню, ярко горели лампочки с абажурами, освещая двор, с вышек торчали пулемёты. А из города всё гнали новые толпы пленных… Об нас Свиридов тут же распорядился, как привёл: «Этих сразу в камеры!» — «Слушаюсь!» — ответил ему Косоротов. Был такой у нас в Новониколаевске знаменитый тюремный надзиратель.