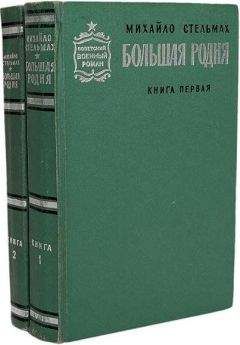Михаил Стельмах - Четыре брода
— Отцовская еще, примерь…
Данило проснулся спозаранку. Потянулся за одеждой, сверху лежала смушковая шапка. Отец носил ее смолоду, и это было все, что осталось от него на белом свете и на далекой черной земле, где из его праха пробилась зеленая трава…
В дверь постучали.
— Входите.
Вошел Максим Петрович. Вчерашняя усталость сошла с его лица и задержалась лишь в морщинках у висков.
— Да вы изменились за одну ночь! — не скрыл своего удивления Диденко.
— Так заметно? — спросил Данило только из вежливости, и снова мыслями его завладел отец.
— Хорошо ли спалось среди святых и грешных душ?
— Вы хотите сказать, что не только во сне подстерегают человека святые и грешные?
— Слышу речь литератора, но хочу видеть еще и хлебороба, и агронома — очень они нам нужны. Очень!..
— Постараюсь быть и учителем, и учеником.
— Это серьезно? — с недоверием и надеждой спросил директор.
— А как же! Я ведь сын черной земли. Ее тревоги — мои тревоги!
— Вот спасибо! Если вы из одержимых, как меня тут прозвали, так и агрономом станете. Над каждым колоском ворожить надо, чтобы поставить крест на бесхлебье!
Данило уважительно посмотрел на Максима Петровича: в такой трудный год, когда вокруг столько невзгод, думать о будущем, жить им сумеет не каждый.
— Я и мечтал стать агрономом, да не вышло.
— У нас выйдет! — заверил Максим Петрович. — Лишь бы землю, как душу, любили. Земле руки любящие нужны, а не разбой! — И доверительно, вполголоса, сказал: — А вы знаете, сколько дают наши делянки? По двести с лишком пудов пшенички! Только до чего ж она привередлива! Посеешь на десять — пятнадцать дней позже — и все, половины урожая как не бывало! Да ржавчина точит хлеб, как железо. Новые, новые нужны сорта, чтоб двести пудов стали нормой среднего урожая! Настала пора колдовать над низкорослыми сортами, а то в стебельчатых соки земли достаются не столько зерну, сколько соломе. Еще во времена Хмельницкого сын антиохийского патриарха Макария Павел Алеппский, путешествуя по Украине, любовался тем, что у нас в хлебах мог спрятаться всадник! А вот о зерне ничего не написал — тут, видно, мало было радости… Что ж, поедем квартиру искать?
— Нет, давайте на поля… Чем вы теперь заняты?
— Рожь сеем с подсевом клевера. Картошку копаем, капусту рубим, огурцы и помидоры солим. Мы ж сами себя кормим…
На заросшем спорышом дворе возле колодца нетерпеливо били копытами, прядали ушами запряженные кони. Сытые, ухоженные, с горевшими огнем ноздрями. Возле них, широко расставив ноги, и здоровую, и вербовую, стоял Терентий Шульга и ждал глазами солнца.
Вот занялось оно, и рассветные тени стали перебегать ему дорогу.
Каким-то удивительным было это утро… Проехали мимо придорожной раскидистой вербы, и Данилу показалось, что Терентий Иванович как-то особенно вглядывался в нее. Нога-то у него вербовая, и немудрящее это дерево стало вроде родным ему, как всегда в беде становится человеку родней и ближе природа. Только б лучше не было этих бед…
Так думалось, так виделось, и сквозь все видения к Данилу приближалась Золотая Липа и с нею являлся отец. Он забыл отцовское лицо, звук его голоса, но чувствовал руку, что когда-то легла перед походом на ребячью головку…
О руки наших отцов! Почему отлетаете вы, словно голуби, раньше времени становитесь землею, травой, росою?!
— Видать, далеко улетели в мыслях, — заметил Максим Петрович.
— Правда ваша. «В праосень золотую и синюю!..» — вспомнились чьи-то слова.
— Все же что-то есть в этом образе! — глянул Максим Петрович в даль, затканную паутиной «бабьего лета», и с улыбкой или насмешкой перехватил мысль Данила: — Посмотрите, как на ладонях лета дрожит последнее тепло, как цепко держится за него август! А звучит и дышит все уже по-осеннему…
Данило изумился:
— Да вы поэт!
— Как многие, я люблю лирику, но на всю жизнь впрягся в будни хлеба насущного. Тут не знают сна ни мои думы, ни моя душа… Вы ведь не забыли, как еще недавно «ухаживали» мы за землей: вспахали как придется, посеяли чем бог послал, помолились на солнце, чтоб принесло погоду, — и роди, боже, на работящего и лежащего! И земля-кормилица давала, что могла, — то зерно, то кровь свою. Чиновников от земли и теперь хватает, нет у них охоты поработать с душой. Одно на уме: как бы поскорее выжать из земли все соки, выполнить план на сегодня, не заглядывая в завтрашний день! А там — хоть трава не расти!..
Они выехали на обсаженный липами шлях. Пылали в осеннем убранстве готовые отгореть деревья, кроны которых сверху пылали золотом угасания, а снизу, в дуплах, отдавалось чуткое эхо ветров. И это снова напомнило Золотую Липу, и того всадника, что через колючую французскую проволоку бросился на вражескую батарею, и тот вражеский снаряд, что взметнул коня и всадника в небо. Неужели это был его отец?!
Так начался первый школьный день сельского учителя Данила Бондаренко, простого, доверчивого, чуткого к людскому горю, непримиримого ко всякому злу. Еще много лет рядом с ним будет шагать скрипучая верба и тут же отзываться Золотая Липа — не река, не дерево, что выросло у родного порога и, раскачиваясь, отзывалось жалобным стоном чайки, врезавшимся в память с раннего детства…
VII
А потом наступили иные дни, со своими хлопотами, тревогами, со своими тенями и просветами, с душевным словом и мелочностью доносов на той же бумаге, на которой можно написать и несравненный образ, и жало змеи. В такие недобрые дни. Данило вспоминал своего отца на вздыбленном коне, вспоминал и круг святых и грешных в старой церквушке и, превозмогая свои боли, еще упорнее постигал мудрость книг, изучал законы убывающего и возрастающего плодородия земли, силу сортов или шел в заснеженную дубраву или в маленькую теплицу Максима Петровича: у того всегда была какая-нибудь новость, какое-то увлечение, какая-то необычная мысль, необычное слово, хотя бы о влюбленности подсолнухов в солнце или о сне листьев. В теплице стояло лето, на дворе же покряхтывал мороз, вьюжила метелица, и теперь самый обыкновенный ржаной колос, что думал о цвете, наклонялся к тебе сказкой или праздником.
— Из колосочка будет горсточка, а из снопика — мерка? — вспоминал колядку.
— Дождемся и такого времени, когда будем не потребителями, а творцами. Сколько люди в печали и нужде посылают всевышнему молитв, чтобы дал нам хлеб насущный! И как мало мы прислушиваемся к языку колоса и полей. Встречаю как-то своего друга молодости, тоже агронома по образованию, здороваемся, стискиваем, как парубки, друг друга ручищами, вспоминаем зеленые годы, а потом спрашиваю:
«Как тебе сеется жито-пшеница?»
И погрустнел мой друг:
«Хочешь верь, хочешь не верь, а я уже забыл, как шелестит ржаной и пшеничный колос, он если и находит меня, то только во сне».
«Это как же понять?!»
«Потому что подшиваю да расшиваю бумаги, составляю да рассылаю инструкции, сею циркуляры, а пожинаю одну неудовлетворенность. За все последние годы только раз был на ржаном поле: когда заболели почки, посоветовали мне лечить их ржаным цветом. Как вор, крадучись, срывал его, но не уберегся и заработал от разгневанной крестьянки «паразита». И до сих пор, как вспомню об этом, жгут ее слова». — «Так почему же ты не бросишь свое мертвое дело канцеляриста?» — «Потому, что получаю за него свежую копейку». Вот и подумайте после этого, как мизерная копейка из агронома, из творца делает потребителя. Разве не страшно, когда крестьянское дитя уже не думает о достатке хлеба для людей, когда оно забыло, как шелестит или истекает слезой рожь? Это я грустную завел. А вот послушайте, о каком чуде узнал у ленинградского ученого! — яснели бездонные очи, лучилось сухое, с полумесяцами морщинок лицо Максима Петровича.
— Неужели чудо? — Данило сделал вид, что сомневается.
— Самое настоящее! — загорелся Диденко. — Мы, живя зерном, еще так по-варварски относимся к нему, так мало знаем его историю, жизнь и прямо-таки взрывную силу. Только подумайте, что может сделать лишь одна предпосевная обработка семян! В журнале Санкт-Петербургской академии наук «Собрание новостей» за ноябрь 1775 года сообщалось, как один крестьянин обрабатывал посевное зерно в известковом и питательном растворах. Результаты были разительны! Представляете, каждая зернина ржи и ячменя выгоняла по тридцать — сорок могучих колосков, а в каждом колоске было свыше ста зерен. С одного зернышка выходила почти четверть фунта урожая. При таком посеве расходуется на гектар семян в четыре раза меньше, чем расходуем мы. Так это же на одном посеве, а если взять в государственном масштабе, можно сэкономить миллиард пудов! Что вы на это скажете?
— Если бы это так было! И почему же мы не знали об этом чуде?
— Сон лет или равнодушие усыпили его! — разгневался на кого-то Диденко. — Какая это страшная болезнь — равнодушие! Она поражает аппарат мышления, сердечный аппарат, оставляя только механический.