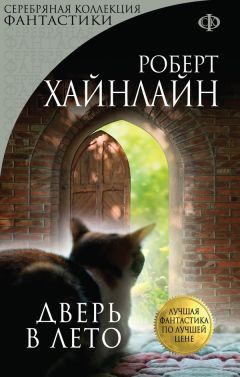Юрий Либединский - Зарево
Уже после разгрома организации вернулся, отбыв ссылку, Али-Акбер, один из трех делегатов, вручавших требования бакинских рабочих Совету нефтепромышленников накануне стачки 1914 года. Али-Акбер опять поступил на сеидовские промыслы, где работал до ареста. Буниат встретился с ним и узнал, что Акоп Вартанян, вместе с которым Али-Акбер вручал ультиматум Совету съездов, бежал из ссылки и тоже находится сейчас в Баку под чужой фамилией. Акопу предстоит призыв в армию, он просит сообщить через Али Акбера — как ему быть? Не тронула охранка и Мамеда Мамедьярова. Не зря этот хитрец носил мохнатую шапку и чоху и порою заглядывал в мечеть. Даже когда он попадал под арест, его быстро освобождали, потому что он умел прикинуться простачком, апшеронским крестьянином (каким он и был по происхождению). Мамед Мамедьяров продолжал жить в своей родной деревне, где и сейчас жил его отец и где проживали его деды и прадеды.
Еще при первой встрече Гурген показал Буниату открыточку, которую он получил на свой домашний адрес. На открытке стояла подпись «Вера». Бегло прочитав открытку, можно было подумать, что писала ее взбалмошная, ищущая развлечений девушка. В открытке, между прочим, сообщалось, что Вера очень рада наконец съездить к тете в столицу, но что она никогда не забудет бакинского гостеприимства. Вера сообщала, что «совершенно случайно!!!» встретилась она с двумя бакинцами: Алымом и долговязым Ваней, который так часто посещал дом Сеидовых, где ему, очевидно, нравилась одна из дочерей. Оба они, и Алым и Ваня, очень-очень беспокоятся о сердечных своих пассиях, «которые, в отличие от меня, оставшейся верной бакинкой, не пишут своим обожателям, — ха-ха-ха…»
Сестра Гургена, в руки которой попала эта открытка, несколько дней не давала брату покоя.
— Вера, Вера, ха-ха-ха! Вера, Вера, ха-ха-ха! — издевалась она над братом.
Гурген смущенно отмалчивался. Да и что он мог ответить?
Эта открытка сказала Гургену о многом: и о том, что писала ее Вера Илларионовна Николаевская, старый работник бакинской партийной организации, арестованная еще осенью 1914 года, и о том, что сейчас Вера Илларионовна бежала из ссылки, и, наконец (ради чего она, очевидно, и писала открытку), что два каких-то бакинских товарища-большевика, по всей очевидности находящиеся в ссылке, не имеют известий от своих близких. Кто такие эти большевики, Гурген не мог установить. Буниат же, когда Гурген показал ему открытку, легко разгадал, о ком идет речь. Алым — это, без сомнения, Алым Мидов, черкес Алым, как называли его в Баку; а длинный Ваня — это, судя по упоминанию о Сеидовых, Иван Никитич Сибирцев, служивший в этой фирме механиком. Буниат тут же вспомнил о Наурузе Керимове, так как Науруз и Алым были веселореченцы.
Буниат вызвал Науруза в хашную Агахана.
Хаш, кушанье из бараньих внутренностей, — излюбленное блюдо бакинского простого народа, и не только уроженцев Востока, но также и русских и украинцев. Конечно, полиции не приходило в голову, что хозяин хашной Агахан, с широким желтым лицом и вопросительно приподнятыми черными бровями, казалось бы весь погруженный в коммерческие расчеты, в сделки с мясниками, содержит явку большевистской партийной организации.
Агахан посадил Науруза и Буниата у столика возле окна, — окно вело на галерею, а оттуда на крышу, откуда можно было спрыгнуть во двор, выходящий на далекую улицу. Одобрительно следя за тем, как переменно и основательно ест Науруз, Буниат сам с удовольствием съел тарелку вкусного блюда, вытер усы и рассказал Наурузу о письме Николаевской.
— Алым по состоянию здоровья вряд ли приедет в Баку, полезней всего ему будет вернуться на родину, — говорил Буниат.
— Это так, — согласился Науруз и, помолчав, добавил: — Может быть, устроить, чтобы семья Алыма переехала на родину, к нам в Веселоречье?
— Об этом стоит подумать, — ответил Буниат. — Но ведь жена Алыма по-вашему не понимает, да и по-русски не очень. И вообще, ты знаешь наших мусульманок, каково ей будет ехать по железной дороге…
Науруз помолчал.
— Подумаю, — сказал он. — И семью Сибирцева поищу и тоже подумаю.
— Думай и действуй. Для этого я тебя и позвал, — сказал Буниат.
Науруз молча взглянул на него. Буниат, слабо улыбаясь, сочувственно кивнул. Он понимал Науруза: легко ли потерять такую верную и преданную подругу, как Нафисат! «Без любимой свет не светит», — поют в песне. Понижая голос, Науруз сказал:
— Знаешь, Буниат, я ведь после того, как прыгнул с поезда, мало что помню. Кажется, что везли меня куда-то все вверх, вверх и руки у меня под головой держала Нафисат и песни пела надо мной. А ведь она… не была она тогда жива…
Буниат дергал себя за черный ус, смотрел на взволнованное и печальное лицо Науруза. Как поступить? Сказать или не сказать? Во время своей поездки по Бакинской и Елисаветпольской губерниям посетил он старика Авеза, и тот расспрашивал его о Наурузе. Старик рассказал, что все время, пока везли Науруза, Айбениз, внучка Авеза, подложив руки под его разбитую голову, оберегала Науруза от толчков… Сказать об этом — и в дым рассеется сотканное горем и болезнью мечтание Науруза о том, что бесплотная тень Нафисат прилетала к нему и облегчала его страдания. Ну и пусть рассеется призрак, пусть торжествует жизнь! И Буниат сказал:
— Значит, ты думаешь, что твою голову поддерживала бесплотная тень Нафисат? А что, если я тебе докажу, что это были руки другой девушки, живой и прекрасной? И что это она облегчала твои страдания?
— Нет, это была Нафисат, — тихо ответил Науруз. — Зачем тебе отгонять ее тень от меня?
Буниат пожал плечами.
— Всегда лучше знать правду. Ты ведь не знаешь, что произошло с тобой после того, как ты разбился. Я тебе расскажу, я сам узнал все это сейчас, во время поездки…
Он рассказывал. Науруз молча слушал. Черная завеса, скрывавшая память, заколыхалась, какие-то отрывистые, непонятные речи доносились оттуда, он вслушивался в них с жадностью.
— Итак, ты видишь, Науруз, что спасли тебя не духи, а добрые люди и что голову твою держала юная Айбениз, дочь учителя…
— Айбениз? — переспросил он. — Лунный лик?
— Именно так ее и зовут, — подтвердил Буниат и вдруг увидел, что Науруз непроизвольно схватился рукой за глаза.
Ведь и тогда, когда его везли все вверх и вверх, в короткое мгновение просветления увидел он высоко над собой лунный лик и, по далекому воспоминанию сиротского детства, сказал «нана», призывая мать к себе на помощь, — и вдруг лунный лик приблизился к нему, знойный цвет апельсина проступил сквозь лунную голубизну, и горячая, живая слеза капнула ему на лоб… Да, это была не Нафисат, Буниат говорил правду.
— Если ты не веришь мне, — продолжал Буниат, — пожалуйста, я дам тебе адрес. В доме учителя тебе обрадуются, там ты увидишь ту живую девушку, которая облегчила твои страдания.
— Я верю тебе, друг Буниат, — сказал Науруз. — И прошу тебя передать этим добрым людям, что сердце мое полно благодарности.
— А ты сам им об этом скажи. — Буниат щурился и посмеивался, дергая себя за ус.
Науруз, не соглашаясь, покачал головой и сделал рукой так, словно отвел что-то невидимое.
— Нет, не пойду я туда. Призраки рассеиваются, но воспоминание живет. Я останусь верен памяти Нафисат и отворачиваюсь от живой Айбениз. Я не хочу ее видеть, так как человек слаб.
Буниат взглянул на него удивленно.
— Ну, ну, — сказал он. — Я все-таки думаю, что живое всегда сильнее мертвого… — Он помолчал. — А впрочем, кто знает, как бы я поступил на твоем месте? — Он вздохнул. — Может быть, так же, как ты. Призраков нет, но власть памяти… Ну что ж, борись с собой, осиль себя, это большая победа. А теперь иди. Судя по цвету того полотенца, которое вывесил Агахан возле рукомойника, выход свободен.
Когда Науруз, уже встав с места, протянул ему руку, Буниат задержав ее в своей руке, спросил:
— Ну, так как?
Науруз понял этот настойчивый вопрос и ответил:
— С каждым днем все туже и туже петля на шее народа.
— Чем туже натягивается, тем скорее лопнет! — ответил Буниат.
4Исполнив поручения Буниата Визирова, Науруз шел на дом к Мамеду Мамедьярову, куда его вызвали. Науруз не знал, зачем он вызван, однако предполагал: он должен сообщить о выполнении поручения, касающегося семей ссыльных товарищей. Но жена Алыма Мидова соглашалась поехать на родину мужа только с тем условием, что Науруз будет ее сопровождать. Наурузу же не хотелось возвращаться сейчас в Веселоречье.
Так шел он, задумавшись, и вдруг вздрогнул и оглянулся. Что произошло только что, неожиданное и опасное? И разве можно задумываться, когда идешь с делом по городу?
Закат разбросал алые перья на полнеба, их словно несло ветром. Но нет, ветра не было, тихо лежала пыль на щербатой мостовой. У девушки, которая с лицом, завешенным черной кисеей, переходила дорогу, ветер не шевелил кисеи, и след ее маленькой босой ноги четко отпечатывался на дороге. Безветрие в Баку бывало так редко, что чувство опасения у Науруза, наверное, вызвано было именно этим внезапным прекращением однообразного воя ветра, который обычно с пылью и дымом несется над городом, сопровождаемый скрежетом и визгом какого-нибудь оторвавшегося где-то куска железа.