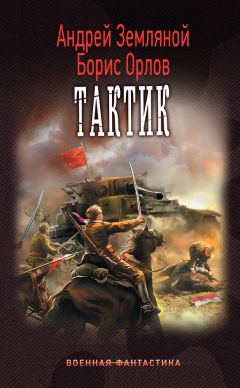Борис Галин - В одном населенном пункте
Я слушал голоса за стеной и думал — может быть, и даже наверное в этот зимний вечер во многих домах у домашнего очага сидят люди и беседуют о том, чем живет мир, чем живет страна, что нужно, чтобы лучше жить, чтобы успешно двигаться вперед.
И тысячи и тысячи штатных и внештатных агитаторов, партийных и непартийных большевиков в этот зимний вечер беседуют с простыми людьми о живых вопросах жизни.
Люди, подобные Герасиму Ивановичу, обладают свежестью и крепостью души… Я не знаю почему, — может быть под влиянием этой подслушанной беседы в горняцком доме, я вспомнил одну недавно прочитанную статью из второго тома сочинений товарища Сталина. Иосиф Виссарионович писал о безвременно умершем революционере-большевике товарище Телия. Он писал о чертах характера этого благородного и скромного человека, смело боровшегося с царским строем.
«Все то, что больше всего характеризует социал-демократическую партию: жажда знаний, независимость, неуклонное движение вперед, стойкость, трудолюбие, нравственная сила, — все это сочеталось в лице тов. Телия».
Десятилетия отделяют нас от того времени, когда люди, подобные Телия, самоотверженно вели работу в массах, сплачивая их на борьбу с самодержавием. Образ этого далекого по времени и близкого нам по духу пропагандиста и агитатора, обладавшего, как пишет товарищ Сталин, апостольским даром, вставал передо мной, когда я слушал голос Герасима Ивановича. Началось новое время, пришли новые люди, возникли новые задачи. Но страстная убежденность в правоте нашего дела, то, что объединяет духовно силы народа, непреклонная решимость, чистота духа идут из поколения в поколение рабочего класса.
Вот этот апостольский дар, я думаю, был у старого горного мастера. Герасим Иванович не скрывал перед своими слушателями трудностей жизни. Люди, с которыми он беседовал, сами прекрасно знали, что такое трудности послевоенной жизни. Герасим Иванович вселял в них бодрость и уверенность в то, что какие бы препятствия советский человек ни встречал на своем пути, он твердо знает, что они будут побеждены. Старый человек, он советовал женам шахтеров — некоторые из них сами работали на шахте — видеть не только то, что под носом, но и смотреть вперед, в будущее.
В голосе его звучали то гневные, то презрительные ноты, когда он говорил о враждебных нам силах.
— Атомной бомбой хотят нас запугать, — говорил старый Приходько. — Думают долларами и свиной тушенкой связать и поставить на колени непокорную Россию… А той простой истины не могут понять эти «цивилизованные» господа, что СССР — это им не Греция и не Англия! Нервы у нас крепкие; люди мы хладнокровные, всё испытавшие. Бросим взгляд, дорогие товарищи женщины, на историю нашей жизни…
И сколько теплоты, гордости послышалось в его голосе, когда он заговорил о нашей стране, о той силе и крепости, с какою наша великая родина выдержала все испытания судьбы!
— Много лютых врагов ополчалось на нашу родину с первого дня ее дыхания, с первого дня ее советской жизни! И князья, и помещики, и дворяне, иностранные интервенты, — все они думали, что советская власть вот-вот кончится… Они спрашивали; что это за власть — Советы рабочих и крестьян? А партия, а Ленин и Сталин видели будущее нашей родины. Это же исторический факт, дорогие товарищи, что Ленин в самый день Великой Октябрьской революции сказал всему народу; «Товарищи и граждане, революция, о которой мечтали миллионы трудящихся, свершилась… И отныне, с этого дня начинается новая полоса в истории развития России. И эта, третья революция в своем конечном итоге приведет нас к победе социализма…» Сколько их на моей памяти, ворогов, шло на советскую власть! И Корниловы, и Юденичи, и Деникины, и бароны Врангели, в союзе с иностранными державами, и Адольф Гитлер! А наш Советский Союз высится среди бушующего океана, как грозный утес.
Долго слышал я голос Герасима Ивановича за перегородкой; потом кто-то укрыл меня одеялом, и я уснул.
Проснулся я на рассвете.
В это утро я долго беседовал с Легостаевым. Меня интересовало, почему он работает рывками, от рекорда к рекорду.
— Товарищ политрук, — сказал он тихо, с какой-то сдержанной страстью, — разве ж так надо работать!
Я сказал ему, что служил на фронте помощником начальника штаба полка. Но он упорно продолжал называть меня политруком.
— Почему же вы не добиваетесь, чтобы вам дали хорошую дорогу в лаве?
— Один в поле не воин, товарищ политрук, — угрюмо сказал он. — Тут надо, чтобы все вот так работали. — И он с силой сцепил пальцы рук.
Когда я спросил его — какая обида тревожит его, Легостаев усмехнулся.
— Да, товарищ политрук, обида… Обидно, что у нас на шахте еще много мерзости, много неполадок, мешающих нам жить.
Он стал рассказывать мне о заведующем райкоммунхоза Малокуцко, который, по его словам, забывает о нуждах простых людей. Он, Легостаев, обратился к нему с просьбой помочь жене погибшего фронтовика, который до войны работал на «Девятой» шахте.
— Хороших людей нельзя забывать!
— Что же Малокуцко? — спросил я.
— А вот что, — сказал Легостаев и показал мне заявление, которое было написано его рукой. Он просил Малокуцко помочь семье фронтовика. Малокуцко написал на этом заявлении такую резолюцию: — «Обстановка не позволяет».
— Обстановка не позволяет, — с горечью сказал Легостаев. — Я понимаю, конечно, что не всегда можно всё и всех удовлетворить, что жилфонд у нас ограниченный. Но знаете, товарищ политрук, такие казенные резолюции раздражают и вызывают чувство обиды.
Для меня не совсем ясно было, в какой связи стоит вопрос о лучшей работе Андрея Легостаева в лаве с этой самой резолюцией «Обстановка не позволяет».
Я вспомнил ночную беседу старого агитатора Герасима Ивановича Приходько, в которой он связывал самые широкие вопросы жизни страны с мелочами вроде сошедшего с рельс электровоза, и попросил Легостаева дать мне заявление вдовы фронтовика с резолюцией «Обстановка не позволяет».
Разговор с Легостаевым надолго запомнился мне. Вот он сидит передо мной — решительное и спокойное лицо, коротко стриженая голова, крупные черты, чуть сдвинутые брови. Его большие и крепкие руки со сбитыми ногтями лежат на столе — они отдыхают. Рубец проходит по правой руке. Я спрашиваю Легостаева:
— Какое ранение?
Он молча берет мою руку и кладет на рубец. Я нащупываю что-то твердое — это осколок, кусочек металла.
Я спрашиваю — где его ранило.
— На Шпрее, — говорит Легостаев. — В уличном бою.
— На Шпрее, — машинально говорю я, все еще держа свою руку на его рубце. — В каком населенном пункте?
— Берлин, — говорит Легостаев.
И мы оба смеемся: вот так населенный пункт!
«Сержант Андрей Легостаев, — подумал я, — трудно поверить, что вы, прошедший полмира по дорогам войны, много испытавший в своей жизни, много видевший, что вы довольствуетесь тихой жизнью»…
На столе лежала наша районная газета. Там рассказывалось о том, что в Снежнянке Герасим Запорожец дал на врубовку свыше десяти тысяч тонн в месяц. Герасим Запорожец — восходящая звезда Донбасса. Я читаю заметку вслух и вдруг вижу, как сжались руки Легостаева; подняв голову, я увидел сдвинутые брови Андрея Легостаева.
— А какой у Запорожца пласт? — вдруг спросил он.
Хорошо, что кое-что из биографии кандидата в депутаты Верховного Совета УССР Герасима Запорожца я записал.
— Общая мощность пласта достигает 1,06 метра, полезная — 0,99 метра. Почва пласта — устойчивый песчаник…
И тут Легостаев вдруг перебивает меня:
— Песчанистый сланец, — говорит он, — а по мере уборки подрубленного угля они кровлю подкрепляют распилом по две стойки, оставляя свободной грудь забоя. А по мере подрубки ставят третью стойку у груди забоя.
Я улыбнулся. «Да ты, друг мой, лучше моего знаешь, как живет и работает Герасим Запорожец. Стало быть, ты интересуешься работой лучших передовых людей Донбасса».
Взяв из моих рук карандаш и развернув блокнот, он начертил схему движения своей врубовки в лаве. Вот так идет лава, вот так он заводит свою врубовую машину, вот так он ставит бар и идет снизу вверх, стараясь не искривить лаву, добиваясь полного вруба.
Я долго говорил с ним о том, что сержант Легостаев, прошедший по дорогам войны полмира, должен быть более активным в труде.
— Вы должны начать, должны сделать почин, товарищ Легостаев, и за вами потянутся остальные.
Он встал и быстрыми шагами молча прошелся по комнате. Ему, видимо, хотелось, чтобы я лучше понял его мысль: горное дело — это искусство, требующее от человека внимания, энергии, таланта.
Подойдя к столу, он решительным движением закрыл мой блокнот и сказал:
— Пойдем, товарищ политрук, в лаву.
И мы пошли на третий горизонт. В пятой лаве находилась врубовая машина. Присев на корточки, он стал осматривать все ее части — режущую, мотор, ведущую. На штреке включили ток, и вскоре врубовка пришла в движение. Стоя на коленях впереди машины и словно сливаясь с врубовкой, чувствуя, как она стальной режущей частью вгрызается в угольный пласт, он вел машину вверх по лаве. Казалось, он как бы увлекает ее за собою, ведет ее вперед и вперед. Свет лампы, прикрепленной к шахтерской каске, выхватывал из тьмы глухо работавшую врубовку, тускло блестевший уголь. Черный от угольной пыли пот струился по лицу и обнаженной груди машиниста.