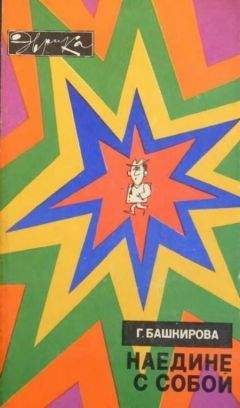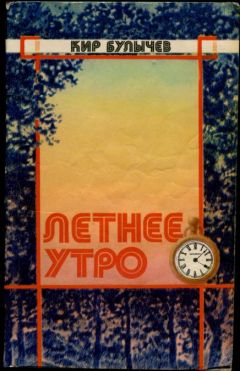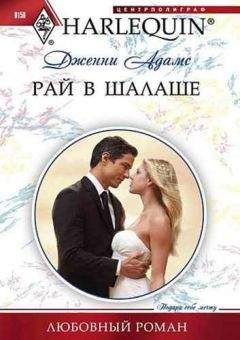Галина Башкирова - Рай в шалаше
— Зато рождаемость у них была высокая! — откликнулась Нонна, с заметным удовольствием вступая в игру.
— Вы можете дослушать? Я же вас не перебивал. — Денисов посмотрел на Таню то ли в ожидании поддержки, то ли желая убедиться в произведенном эффекте, но ничего, кроме недоумения, не прочитал он в Таниных глазах и потому еще больше завелся. — Что вы ухватились за младенца! Все бы вам шуточки шутить! Я не о нем, я по существу. А по существу получается: не было бы младенца, не было бы христианства — это, если верить евангелистам, не говоря уже о том, что Христа вообще могли придумать.
— Но был бы кто-то другой! — возразила Таня. — Пришла пора, возникла надобность, и Христос явился.
— Оставь, Таня, — перебил Денисов жену. — Мы не о надобности говорим, я разбираю конкретный случай. А без этого самого младенца все могло повернуться иначе. И Христа — простейший мысленный эксперимент — могло не быть, поскольку не было в нем абсолютной необходимости. Абсолютная необходимость — в появлении колеса, в теореме Пифагора, — в христианстве ее не было. Индия и Китай благополучно обошлись без Христа.
— Валя! Что ты говоришь! Это исторически неверно! — снова возмутилась Таня.
— Что значит исторически? Где ваши критерии? Я беру по более крупному счету. Что ты молчишь? Не согласна? Нет у вас критериев, ничего у вас нет, кроме разговоров. Реальна только природная необходимость, то есть то, чего не может не быть. Это же так просто! — засмеялся Денисов. — Зеленое солнце? Пожалуйста. Шестикрылые люди? Могу вообразить. Мыслящий океан? Вслед за Лемом допускаю. Но в любом из этих миров будут действовать физические законы. Закон всемирного тяготения, таблица Менделеева, таблица умножения, наконец.
...Костя мрачно слушал, Нонна была вся внимание, вся восторг приобщения. А во дворе все выкликали детей по домам, знакомые ежевечерние крики, в которых и Таня обычно принимала участие. Теперь уже звали Антона из пятого класса «Б», параллельного с Петькой класса; конопатый, веселый Антон что-то гудел снизу в ответ неразборчивое, мальчишки постарше возбужденно кричали свое, гитарное без гитары. Бабушка, неукоснительно соблюдавшая режим, укладывала сейчас Петю спать, а Петин отец в это время продолжал развивать свою удивительную гипотезу.
Интересно, почему Денисов вспылил, думала Таня, не в первый и даже не в сотый раз вынужден он слушать их разговоры. Почему он так непримирим сегодня? Природная необходимость не доказательство истины, Денисову ли это не знать, и есть вещи, которые не под силу и самому могучему уму, Денисов обязан помнить теорему Геделя: есть в логике неустранимые парадоксы — утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Мир мог бы стать безнравственным, но нравственность от этого не перестала бы цениться, и оттого, что в какой-то иной культуре похвально было бы быть злым, добро не исчезает.
Но Денисов упорствовал: давление научной парадигмы — так это модно теперь называть... Это означает, что на мысли человека, его восприятие, образ жизни влияет сложившаяся в науке ситуация, то есть парадигма. Денисов утверждал сейчас то, что принято в его парадигме, вернее, не то, что принято, а так, как принято. То, что принято, было как раз другое, противоположное. Все божественное сейчас в моде; Денисов снова, как в случае с иконами, шел против моды, посягая на то, на что не принято было посягать, что молчаливо не отрицалось. Звезда над Вифлеемом, происхождение Спасителя, аргументы в пользу реальности его существования, анализ четырех евангелий, «низкое» происхождение Христа из захолустной Галилеи («подумайте сами, это все равно как если сказать, что дом Романовых, допустим, произошел из Бердичева, нонсенс, для евангелистов невыгодная деталь») — все эти факты горячо обсуждались, после долгих десятилетий забвения снова занимали умы, но не в религиозном, скорее в историческом, любопытствующе-скучающем аспекте. И перевод первой фразы Нагорной проповеди «блаженны нищие духом» — об этом тоже принято было поговорить меж людьми, не изучавшими ни одного из древних языков, не знавшими толком ни истории религии, ни вообще религии, ни просто истории... В гостях разговаривали о новых находках в районе Мертвого моря, на пасху красили яички и высевали овес, всей компанией на машинах ездили в загородные церкви слушать рождественскую службу. Это было распространено, модно и неизбежно в каких-то кругах, и различить, где мода, где искренность, а где пустая праздность, уже бывало трудно. Все это так, но, похоже, Денисова не это раздражало и не со всем этим собрался вступать он в полемику, хотя подсознательно совсем не случайно выбрал именно этот пример. Он не выносил безответственности, бездоказательности суждений, можно было бы даже сказать резче — безграмотности в том смысле, в каком сам он понимал грамотность. И тут Денисов был полностью человеком своей парадигмы. Таня хорошо знала это его свойство, все время натыкаясь на вешки, границы, дальше которых заходить небезопасно. Но то, что знала и чувствовала Таня, было непонятно со стороны: с Денисовым ее коллеги брались спорить всерьез, не понимая, что тут спорить не о чем, тут сходились разные способы мышления, и договариваться, следовательно, тоже было не о чем и незачем — общей платформы не существовало. Обе стороны были слабы, у обеих были изъяны, но обе упорно не признавались в неполноте и несовершенстве своего знания.
Почему мы делаем вид, что нам все известно? — думала Таня. Почему мы без конца утомляемся работой по убеждению себя в собственной правоте, почему?.. Даже вечером, даже когда устали, даже если не любим друг друга и не заинтересованы в истине. Какая истина нужна Денисову, зачем? В чем он хочет убедить Костю, зачем так хочется ему поставить всех на место? На какое место? Лучше бы сейчас с Петей задачи решал, укладывал бы его спать, разговаривал бы с ним не спеша... Но нет, не получается, и годами идет молчаливый, сегодня прорвавшийся разговором поединок с Цветковым — бесплодное, разрушительное занятие, ибо ничего, кроме взаимного отчуждения, оно не приносит.
...— Валентин Петрович, я не совсем догадываюсь, к чему вы ведете? — спросила Нонна. — Это все любопытно, но вы знаете, я думаю...
— Любопытно? — возмутился Костя. — Это чудовищно! — Цветков поморщился, как от боли.
— Ты преувеличиваешь, Костя! Дослушайте до конца. Ты о чем задумалась, Танюша? Я говорю о том, что без физических законов мир вообразить нельзя, — вернул Таню к разговору муж, — а вот без Нагорной проповеди можно, и без апостолов, и без того, чтобы слабость торжествовала над силой.
...Да, думала между тем Таня, парадигма вовсе не такое уж страшное чудище. Вырваться из нее, конечно, трудно, почти невозможно, но, как библейский Иона (коль скоро муж заговорил о библейских временах), можно ведь приспособиться уютно жить и в чреве кита, отрешившись от того, что существует еще и огромный вольный океан, с волнами, бурями, опасностями, нелегким воздухом свободы...
Парадигма, мудреное слово, — это свобода от свободы, рабство, причем привычное, мелкое, что-то вроде уличных сплетен, с которыми так или иначе, но приходится считаться: все мы живем в чреве улиц, городов, институтов, заводов, лабораторий. В науке, как на улице, все обо всем точно известно. Известно, что верен только воспроизводимый эксперимент, все остальное туфта. И на улице то же самое. Про эту известно, что она гулящая, про того, что он примерный сын, те хорошо живут, а эти плохо. Все просто. Телепатия плохо, эксперимент — хорошо. Точность — критерий. Неточность — подозрительна. Ничего, как в любой сплетне, не откладывается на завтра для выяснения истины. Приговор улицы окончателен сегодня...
— Представляете, — продолжал тем временем Денисов, — убрали бы младенца вовремя, и мы бы тихо беседовали сейчас совсем в другом мире, сидели бы в каком-нибудь там шатре, обсуждали совсем другие проблемы.
— Систему распределения аспиранток в гаремы старших научных сотрудников, — желчно вставил Костя.
— Ну что ты, ей-богу, я же серьезно!
— А я голосую за матриархат, — весело сказала Нонна.
— А ты, Танюша? — спросил муж. Таня промолчала.
— Нет, представляете, — вдохновился Денисов, — совсем другой облик мира, и в этом мире ничего нашего, европейского, из чего все мы вышли, вообще не было — ни крестовых походов, ни Византии, ни склоки между католичеством и православием, ни костров инквизиции, ни готических соборов, ни Лувра и Эрмитажа, потому что не было бы ни Рафаэля с его мадоннами, ни Боттичелли, ни твоего, Танюша, любимого Мемлинга, — ничего. И в концерты слушать Моцарта мы бы не ходили, но все равно расшибались бы в лепешку, чтобы достать билет на Рихтера. Правда, Гайдна и Бетховена Рихтер бы нам не изобразил, играл бы себе в другой цивилизации на балалайке или домбре, или как там это называется...