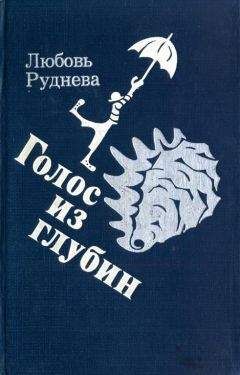Иван Щеголихин - Снега метельные
– Понять и простить, – усмехнулся Николаев.– Нет, мы не станем возвращаться к порочным методам. И нечего нам тут играть в либерализм – дескать, не виноват Ткач, былая практика виновата. Но прошел двадцатый съезд, пришла пора ломать эту практику и круто ломать, несмотря на старые заслуги тех или иных людей. Все вы знаете, что освоение целинных земель – общенародное дело. Это не просто расширение пашни, хлебной нивы, это целая эпоха в жизни государства. И мы, целинники, на переднем крае. Когда-то Гейне говорил, что в будущем у каждого человека будет много хлеба и много роз. Хлеб можно измерить гектарами и тоннами, а вот чем измерить розы? А розы – это нравственная красота человека, благородство его побуждений, его высокая бескомпромиссная мораль. Только так мы должны понимать мораль советского человека. А как ее понимает Ткач? Как ее понимает Хлынов, его, в сущности, приспешник?..
Сергей слушал через силу, слабо вникая в суть, ему казалось, все говорят не о том, лишнее говорят, то, что он и сам понимает и знает. Но голоса бубнят, вместе со стуком его сердца, под шум крови в его висках, тише-громче, тише-громче...
И наконец:
— Хлынов!
Голоса стихли, тени в синеве кабинета остановились.
— Хлынов, вы слышите?— повторил Николаев громко.
Как будто никогда прежде не был веселым голос секретаря райкома, как будто он никогда не кричал Хлынову летним солнечным утром: «Здорово, Сергей, как жизнь молодая?»
— Слышу.
«Нет, я не во всем виновен!.. Нет, не всегда был виновен! Я вкалывал, как всегда!..»—думал Сергей, слушая, как продолжал Николаев:
– Поступило два предложения: исключить вас из рядов партии и второе – объявить вам строгий выговор.
Синее марево как будто рассеялось, Сергей встал и увидел глаза членов бюро, устремленные на него, разные и одинаковые в своей строгости, не лишенные в то же время любопытства. И четче, строже других – серые, твердые глаза Николаева.
Сергей опустил взгляд, посмотрел на свои руки. Показалось, что и все посмотрели на его руки. На руки, которыми гордился не только Ткач, но, было время, что и весь район, и они, члены бюро, тоже гордились. Сергей отвел руки за спину.
Руки руками. А голова головой. Стоял и молчал.
– Кто за то, чтобы Хлынова Сергея Александровича исключить из рядов Коммунистической партии, прошу поднять руку,
Между Николаевым и Хлыновым желтый пол из широких, чуть ли не в полметра досок. Они легли к столу, до стола четыре шага, на столе красное сукно. Туда надо положить партийный билет.
Красный флажок на его комбайне, красная косынка у Таньки Звон, красная подкладка под орденами Ткача. Его нет здесь, слёг, увезли в больницу.
– Раз, два три,— считает Николаев.– Меньшинство.
Вместо радости обида вдруг расперла горло Сергея, Сознавая, что надо бы оставаться на месте, дослушать, принять выговор достойно, Сергей отвернулся, и ноги сами понесли его к выходу. Он только успел подумать сквозь обиду: «Как бы не задеть сапогом порога. Как бы не хлопнуть дверью!»
В приемной сидел народ. Сергей поднял голову, испытывая желание смело обвести взглядом всех, но не успел, их тут много, а ноги несли его дальше, к выходу, в другую дверь. Кто-то, кажется, знакомый выдохнул в спину: «Ну что-о, Сергей?»
Он шагнул торопливей, думая о том, чтобы не навязались сейчас с расспросами, а то у него не хватит выдержки, не хватит голоса говорить, как прежде, небрежно-спокойно.
Спустился по лестнице, долго открывал тяжелую дверь, наконец, вышел. Было темно, остро свежо, студено. Подумалось вдруг о детстве, о школе, о времени, когда всё-всё было еще началом, каждый день был началом, когда всё было ожиданием жизни.
В райком шли, о чем-то говорили. Сергей молча посторонился, отошел к гаражу, повернул за глухую стену. Здесь было пустынно, тихо, из снега торчал черный курай, похожий на пропавший хлеб, Холодно, холодно...
Сергей прислонился лбом к шершавым, занозистым доскам, но не надолго, только на мгновение; ему показалось, что и тут, в глухом закутке, на него кто-то смотрит, кто-то может увидеть, как он ослабел, пригорюнился, он, Сергей Хлынов.
Черные стебли уныло качнулись под ветром, тихо зашуршал сухой снег. Скоро задымит поземка, заострятся сугробы, закружит, засвистит вьюга.
У стены, в затишье сиротливо стыл его мотоцикл. Сергей запахнул полушубок, опустил мотоцикл с упора, Повел его на дорогу. Перед райкомом глянцевито-розово блестела тропинка от света из окон. На столбе гудел репродуктор. «В честь тридцать девятой годовщины... коллектив бригады... взял на себя...»
Где-то продолжались — всюду продолжались большие трудовые дела.
Сергей вывел мотоцикл на дорогу. Поправил шапку, неторопливо застегнул полушубок доверху. Потом выпрямился и – заглушил мотор.
Все теперь хотелось начать сначала. От нуля.
26
Утром 23-го октября торжественный голос диктора передал по радио: Казахстан, давший стране миллиард пудов зерна, награждается орденом Ленина.
В полдень принесли газеты,
В палате ораторствовал Малинка:
– Еще ни одна республика не получила орден Ленина, а Казахстан получил! РСФСР не получила, Украина и Белоруссия не получили, а Казахстан получил – первый!
В пять часов раскатисто загремел репродуктор:
— Дорогие товарищи!..
Женя дежурила в больнице. Не утерпев, накинула пальто, платок и побежала на площадь. Митинг проходил возле Дома культуры. Николаев стоял на трибуне без шапки и говорил:
– Наша область сдала государству двести восемьдесят миллионов пудов хлеба. Три года назад вся республика сдала в пять раз меньше. Миллиард пудов – это урожай одиннадцати предыдущих лет вместе взятых. Целина оправдала наши надежды!..
Выступали из райкома комсомола, выступал Жакипов:
– Наш Казахстан идет от победы к победе. Под руководством коммунистической партии. Мои шофера сейчас возят хлеб, но пока плохо возят. Ничего! Мои шофера только неделю назад в землянки перешли, в кабинке спали. Всем спасибо за помощь! Миллиард – хорошо, орден –хорошо, а что хлеб горит – плохо, надо быстро перевозить, быстро спасать!..
Днем в Камышном знакомые и незнакомые поздравляли друг друга. Но к вечеру стало тихо...
Тревожил забуртованный, подмоченный дождями хлеб, который нужно было спасать,
17В тетке Нюре Женя не ошиблась, если можно так говорить, когда человеку не веришь. Она оказалась хитрой и неприятной старухой. На все замечания Жени она почему-то кривилась, видимо, не считая ее за работника, хотя и находилась в прямом у нее подчинении. По поводу и без повода тетка Нюра говорила об одном и том же – молодежь нынче пошла никудышная, старших не почитает, не слушает. Все эти ее нарекания Женя, как полноправный представитель молодежи, принимала в свой адрес и, не зная, чем ответить тетке, стала на всякий случай сама носить гидропульт, снаряжение дезинструктора, что совсем не входило в ее обязанности. Во время обследования объекта тетка Нюра молчала, будто в рот воды набрала, не поддерживала Женю ни единым словом. А скандалить она могла отчаянно, а молчала умышленно, не хотела портить отношения с начальством. При обследовании тетка Нюра садилась на первый попавшийся стул, совала руки в карманы, превращаясь в букву «Ф», и ни слова не говорила в пользу санитарных норм. «Я дезинструктор, у меня нет права голоса»,— оправдывалась тетка перед Женей. Зато в здравотделе, когда Женя начинала докладывать о ходе обследования, тетка обретала право голоса. Она размахивала руками и кричала о недостатках, будто сама их обнаружила, повторяла, и довольно складно, все требования Жени во время обследования, причем с угрозами, вроде «всыпать перцу этим сволочам, зажрались» и прочее, полагая, что способность «лаяться»— главное оружие в санитарной работе. Женя только плечами поводила от ее громкоголосой, показной и совсем неуместной деловитости. Трудно ей было с теткой. Жене хотелось ее чему-то научить, ведь она не имеет никакой специальной подготовки, но всякий раз тетка Нюра самолюбиво пресекала ее намерения: «Ты вот поживи с моё, тогда и будешь учить». Она невзлюбила Женю, это ясно, но вот за что? Только за то, что она молодая? Или, может быть, за то, что приезжая, что целинница?
Однажды тетка Нюра не пришла на работу во-время, и Женя, идя на обследование, зашла к ней домой. Кое-как открыла тяжелую деревянную калитку, огляделась, ища собаку, – она убеждена была, у тетки непременно волкодав какой-нибудь, злющий-презлющий, как в сказке. Увидела конуру вдалеке, в конуре что-то мохнатое и, прикинув расстояние до крыльца, быстро туда пробежала. Стоял мороз, и псу наверняка было лень за ней гнаться, он даже и голоса не подал.
Своим появлением на пороге Женя перепугала тетку Нюру чуть не до смерти. В комнате пахло луком, кислым теплом и еще каким-то неприятным острым запахом, возможно, самогонкой. Женя уже слышала, что тетка Нюра варит самогонку, особенно перед праздниками. Сбоку, в закутке с маленьким сумрачным оконцем Женя увидела целую гору пшеницы, наваленной почти до потолка и ничем не накрытой. Прямо-таки зернохранилище! На зерне, как на песке, лежал симпатичный белолобый теленок. Время от времени он взмахивал хвостом и, как водой, обдавал себя пшеничными брызгами. Женя, глядя на такую картину, не сдержала возгласа недоумения, удивления, а может быть, еще и восхищения — так ей понравился теленок. Тетка поняла ее по-своему и пояснила: