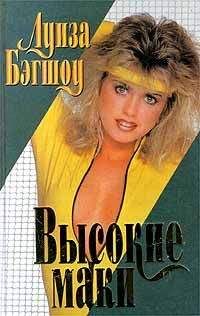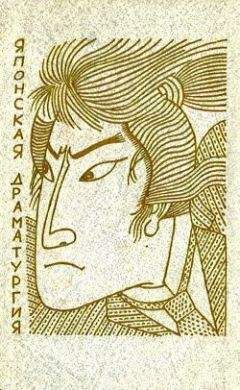Илья Эренбург - Лазик Ройтшванец
— Работаете?
Он гордо отвечал:
— Еще бы! Заканчиваю шестой том марксистской критики всяких очертаний.
Это вызывало благоговейный трепет одних, зависть других. Однажды Лазик сидел в «Литературном Клубе», поджидая оказии: вдруг объявится какой-нибудь новый Солитер. С ним заговорил очкастый субъект, все время надрывно зевавший:
— Скучный сегодня доклад…
— А когда он не бывает скучным? Это же вам не «Венеция» с мелодиями…
Очкастый усмехнулся:
— Вы — поэт? Прозаик?
— Я? Я марксист на седьмом томе. Да, не что-нибудь возле, но стопроцентный критик. А вы кто же?
— Я — ученый секретарь Академии.
Лазика передернуло: вот это номер! Наверное, ему платят все сто рублей за предисловие и вообще громовой почет. Какъ должны, например, кормить такого академического фрукта! Сплошными орхидеями. Почему же Лазик не может быть секретарем Академии? Это, вероятно, обыкновенный дом, если не на Лубянке, так на Петровке. А на счет учености не может быть речи. Более ученого, кажется, трудно себе представить. Мало учил его хотя бы товарищ Серебряков, уж не говоря о хедере?
На ближайшем диспуте «О современном языке», Лазик так начал свою речь:
— Я говорю не только как беспощадный критик, но как очень ученый секретарь самой главной Академии. Я знаю ваш могучий язык вдоль и поперек, и я скажу, что это только предсмертное скака-ние, потому что, когда волнуется классовый океан…
Кончить ему не удалось.
За одной бедой пришла другая. Рюрик Абрамович снова уехал открывать Северный полюс, и, разбирая дела издательства «Красный Диван», нескромные люди заинтересовались автором патетического предисловия. После скандала на диспуте «бдисты» поспешили отступиться от Ройтшванеца, и литературная карьера Лазика кончилась следующим, не вполне литературным разговором:
— Имя? Год рождения? Состоите на учете? Хорошо. Теперь объясните мне, кто вы, собственно говоря, такой?
— Я? Надстройка.
— Как?…
— Очень просто. Если вы база, то я надстройка. Я говорю с вами, как закоренелый марксист.
— Знаете что, вы эти истории бросьте! Меня разыграть не так то легко. Я вас насквозь вижу. Отвечайте без дураков, что вы за птица?
— Если птица, то филин. Как? Вы не знаете этой постыдной истории? Но ведь ее знает весь Гомель. Тогда я вам сейчас же расскажу. Два еврея разговаривают: «что такое филин?» — «рыба» — «почему же она сидит на ветке»? — «сумасшедшая». Так вот я скорей всего птица или рыба, одним словом, что-то сумасшедшее.
— Ах, так!.. Прикидываетесь?.. Я, кстати, спец по части симуляторов. Здесь один прохвост был, продавал на черной бирже доллары. Так он вроде вас комедию затеял. Объявил себя собакой. На четвереньках ползал, лаял, даже заднюю лапу подымал. Ну я ему: «что же, раз вы собака, то и говорить не о чем: собаке — собачья смерть!» Он мигом вскочил на обе ноги и как закричит: «хорошо, я уже не собака, я — Осип Бейчик и, пожалуйста, обращайтесь со мной по-человечески»!
— Итак, вы — рыба?
— Нет, я не рыба. Я вовсе не хочу плавать в какой-то холодной воде. Я попробовал говорить с вами возвышенно, как на самых шикарных диспутах, но если вам это не нравится, я могу говорить с вами просто. Кто я? Я — бывший мужеский портной. Все началось с брюк Пфейфера, а кончилось этими бронзовыми брюками. Меня раздавило величье истории. Я, например, три дня постился, а потом я встретил товарища Архипа Стойкого. У него росла борода не на месте, и он читал мне такие глупости, что услышь их последняя гомельская кляча, и та, наверное, сдохла бы от сухого сарказма. Тогда я подумал, если этот Архип Стойкий — великий писатель, почему же мне не взлезть на готовый пьедестал? Я не виноват, если я ничего не понял в романе гражданина Кюроза. Вы тоже не поняли бы, и я даю вам честное слово, что даже китайские генералы здесь тоже ничего не поняли бы. А если я один раз и нализался в «Венеции», то это еще не государственный порок. У нас в Гомеле говорят: «человек, конечно, вышел из земли, и он, конечно, вернется в землю. Это вполне понятно. Но между тем, как он вышел и между тем, как он вернется, можно, кажется, опрокинуть одну рюмочку». Я не помню, что я говорил там, в этой журчащей «Венеции», потому что меня там просто на просто тошнило. Теперь я развенчан, как несуществующий бог. Что делать, я не возражаю. Вы не хотите, чтоб я был новым Пушкиным, я не буду. Я снимаю с себя эти бронзовые штаны, и я прощаюсь с вкусными орхидеями. Я обещаю вам быть тише, чем, стриженная под бобрик, трава. Только не отсылайте меня к Рюрику Абрамовичу! У меня нет никакой шубы, а он теперь, наверное, не заказывает больше предисловия. Не пытайте злосчастного Ройтшванеца! Нет, лучше отпустите его на все пятнадцать сторон!..
18
К осени Лазик устроился. Он снова ел битки. Правда, в его новой службе не было ничего возвышающаго душу, но наученный горьким опытом, он больше не мечтал о мировой славе. Некто Борис Самойлович Хейфец получал из Минска контрабандное сукно. В обязанности Лазика входило разносить материал частным портным. За это он получал шесть червонцев в месяц. Конечно, в Москве было теплей, чем на северном полюсе, но Лазик все время дрожал. Он нес сукно, как бедная мать подкидыша, прижимая его к груди и пугливо озираясь на щебечущих воробьев. Он даже завидовал Рюрику Абрамовичу — тот уже на месте, привык, может быть, оброс толстой кожей, как ледовитый медведь, а ему, Лазику, только предстоит эта лихорадочная экскурсия.
Единственным утешением Лазика были две соседки. Он встречал их иногда в корридоре или на лестнице, останавливался, благоговейно вздыхал и терял отрез сукна. Время взяло свое — он в душе изменял Фене Гершанович. Как никак Феничка была яблоком отсталого продукта, а соседки Лазика работали в «Льняном Тресте», ходили в театры со стрельбой, и выражались научно; так, например, одна из них, столкнувшись в дверях с Лазиком, сказала: «такие арапы зря занимают жилищную площадь»… Лазик влюбился сразу в обеих, и это его несколько смущало. Он знал, что одну, пышную и розовую, зовут «товарищем Нюсей», а другую, остроносую брюнетку, — «товарищем Лилей». В кого же он влюблен в Лилю или в Нюсю? Впрочем, этот вопрос занимал его абстрактно, так как он скорей согласился бы отправиться в гости к ледовитому Рюрику Абрамовичу, нежели заговорить с одной из прекрасных соседок.
Однажды вечером, вернувшись домой, после трудового дня (Хейфец получил большую партию коверкота), Лазих увидал в дверях своей комнаты товарища Нюсю. Он тихо пискнул от восторга. Нюся первая заговорила:
— Почему вы все время на меня смотрите и не здороваетесь?
Лазик молчал.
— Вы, что же — немой?
Тогда героическим усилием воли Лазик заставил себя заговорить:
— Нет, я не немой. Немая это Пуке. А я — Ройтшванец. Но как я могу с вами говорить? О, если б я вас встретил раньше, когда я был кандидатом в Пушкины или хотя бы просто кандидатом! А что я теперь? Отпетый курьер вполне частного предприятия, то есть Бориса Самойловича. Вы же — бронзовое божество.
Нюся рассмеялась.
— Я не божество, а делопроизводительница, но комната у вас хорошая. Вы один ведь живете? Как только вам раздобыть удалось?
— Это — Борис Самойлович. У него удивительные связи. Но почему вы говорите о глупой комнате, когда вы даже не передовой отряд, а бронзовое очертание?
— Что вы к бронзе привязались? Я не из бронзы. Я, кажется…
Люся не договорила, вместо слов она только повиляла своими не бронзовыми формами. Лазик зажмурился. Он еле-еле пролепетал:
— Какой сверхестественный фейерверк!..
Нюся подошла к окну; тщательно осмотрела она скромную обстановку. Лазик не сводил с нее глаз: мираж, дивное видение!
Надо сознаться, что Лазик отличался чрезмерной восторженностью. Хоть Нюся и была женщиной дородной, красотой она никак не отличалась: нос картошкой, вместо бровей — белый пух, короткая, толстая шея. Единственное, чем могла она похвастаться — это изобилие материала; рядом с Лазиком казалась она в ширину бушующим океаном, а в вышину небоскребом.
Молчание длилось довольно долго. Наконец, Нюся сказала:
— Вы все еще на меня глаза пялите? Нравлюсь?
— О!.. О!..
Лазик не находил слов. Он размахивал ручками и прерывисто дышал.
— Нравитесь? Какое постыдное слово! Почему я не Пушкин? Почему я хотя бы не Шурка Бездомный? Я смеюсь, когда думаю сейчас о моих недавних сомнениях. Вы слышите, как я ужасно смеюсь?
Нюся только пожала плечами: Лазик ведь не смеялся.
— Вы не слышите?
Он громко крикнул: «ха-ха!»
— Теперь вы слышите? Я смеюсь, потому что я сомневался в связи с этим товарищем Лилей. У нее же ничего нет, кроме носа. Она недостойна даже спать с вами в одной комнате. Когда я гляжу на вас со всех четырех сторон, в мои глаза летит электричество. Вы стоите сейчас над миром, как бронзовая…