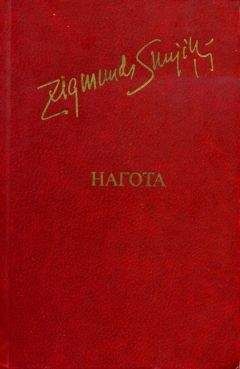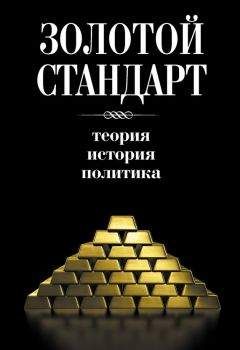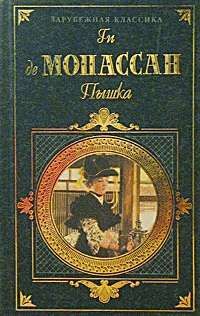Зигмунд Скуинь - Кровать с золотой ножкой
Неведомый архивист, обнаруживший эту запись еще до Скайдрите Вэягал, легонько карандашом и, похоже, детским почерком от себя добавил: «Ева и Пьер Кюри искали новые радиоактивные элементы, а нашли ключ к атомной бомбе. В свою очередь, заключенная в атомной бомбе энергия, будучи разумно использована, может спасти человечество, например, с наступлением новой эпохи оледенения».
Август воздерживался заводить разговор с Ноасом о восстановлении дома. Да и куда спешить, времена были тревожные. «Лесные братья» продолжали борьбу, в отместку бароны и власти расстреливали, вешали, жгли. Черная сотня покинула Зунте, но кто мог поручиться, что она не вернется.
Гибель Якаба Эрнеста и обострение болезни Элизабеты Ноас пережил тяжело. Но, думается, больше всего потрясла встреча с Эдуардом, перечеркнувшая его последние надежды. Это было сокрушительным ударом: за голову Эдуарда власти сулили пятьсот золотых рублей; как знать, быть может, кости сына уже белеют под каким-нибудь забором. Ноас поник, поседел на глазах. Мало что осталось от былой молодцеватой выправки. Куда девалась твердая, разлетистая походка? Теперь он при ходьбе старчески сутулился, пошаркивал ногами.
Ближе к весне Август как бы между прочим осведомился у брата, когда тот собирается отбыть.
— Давно собираюсь, — ответил Ноас, — да не в дальний путь, а в Ригу. Цена на парусники падает, как якорь в воду. За шхуну, год-другой назад стоившую все тридцать тысяч, хорошо, если весной получишь пять. А еще через полгода, считай, задаром придется отдать.
Действительно, Ноас вскоре уехал в Ригу, а в начале апреля вернулся. И было видно, вернулся без лавров. Сам ничего не рассказывал, Август не лез с расспросами. Но когда наступил июнь, а Ноас все еще отсиживался на берегу, Август как-то под вечер явился к нему в Особняк и сказал:
— Здравствуй, брат, пора бы «Вэягалы» привести в порядок. Чуть подует ветер, золой так и несет.
— Ты что же, хочешь, чтоб я тебе помог золу вывозить? — Ноас утирал потный лоб не первой свежести платком.
— Хочу знать, сколько денег думаешь вложить в восстановление дома. Я не бедняк, но расходы будут немалые.
— Нет у меня бросовых денег. Деньги самому нужны на стальной корабль с паровым двигателем.
Август сгоряча предложил выкупить его половину хозяйства и тут же выложить всю сумму сполна. Чтобы раз и навсегда с этим покончить, Ноас без раздумий согласился:
— По рукам!
На обратном пути неспокойно было на душе у Августа. Как раз теперь, когда позарез нужны наличные, он остался без копейки. Ну да ладно, зато у него земля, а в землю он верил. Потому в темноте грудь его вызвездили надежды, и Август так самого себя успокаивал: «Не беда, год-другой переможемся. Пока ребята подрастут, глядишь, и дом поднимется».
7Паулис Вэягал, старший сын Антонии и Августа, на свет появился в рождественскую ночь — не то потехи ради, не то из упрямства, желая всем досадить, а заодно и сам поглядеть, что из этого получится. Словом, появился ногами вперед. Молодая, еще не набравшаяся опыта повитуха, почувствовав, что роды сулят осложнения, посоветовала послать за доктором. Но Август сумел сохранить хладнокровие. Только и несчастья, что ногами вперед? Нечего пороть горячку, бывает, и жеребята таким манером рождаются. Август взял дело в свои руки, и к утру парень тут как тут, голосистый, с отметиной своенравия на лице — круглыми, горящими глазами и парой роговидных шишек на лбу.
Сначала его звали жеребенком, затем крикуном и егозой. Паулис быстро научился выговаривать слова и строить из них фразы. Никто не помнил другого ребенка, кто бы так много и охотно говорил. Паулис разговаривал со знакомыми и незнакомыми, с самим собой и братьями, говорившими хуже его, с сестрой, которая совсем еще не говорила, с деревьями, животными, ведрами, лоханями и стогами сена. Он говорил наяву и во сне, шагая по дороге и глядя в окно. И казалось, все его понимают. Маленькая Элвира как на веревочке за Паулисом ходила, петух его слушал, склонив набок голову и приоткрыв клюв, собаки на него не лаяли, коровы при его приближении добродушно помыкивали.
Как-то ночью Антония обнаружила, что кровать Паулиса пуста. Он сидел на крыше дома. Когда его спросили, что он там делает, Паулис ответил, что звезды считает.
— Ну, и сколько в небе звезд?
— Пока не сосчитал. Когда сосчитаю, скажу.
То же самое Паулис ответил и во второй, и в третий раз, когда его заставали на крыше. Какое-то время спустя со своей обычной ухмылкой он объявил, что дело сделано. И назвал число. Никто так и не понял, действительно ли Паулис все светила сосчитал или просто валял дурака. У Паулиса было настолько живое воображение, что нередко у него самого и у тех, кто его слушал, терялась грань между реальностью и вымыслом.
После того как сгорели «Вэягалы» и убили Якаба Эрнеста, Паулис перестал во сне разговаривать. Вовсе не потому, что в риге сон был крепче. Просто теперь Паулис во сне потихоньку плакал, а поутру, как всегда, вставал бодрый, веселый и во всем остальном был тот же прежний Паулис. Те годы так или иначе сказались и на других детях. Любимчик матери шестилетний Атис и вечно задумчивый Эгон в продолжение всего лета хоронили мертвецов. Такая была у них игра — то там, то здесь рыли могилы, а потом их засыпали. Ставили кресты и опять снимали. Поскольку кошек и цыплят в силу их живучести нельзя было использовать, роль мертвецов выполняли вещи неодушевленные: поленья, деревянные ложки, ящички из-под гвоздей и сапожные колодки. Иногда мертвецов хоронили так основательно, что отыскать их не удавалось. Когда таким образом исчез один из лучших топоров, а затем и рубанок, отец прервал очередную церемонию захоронения, отстегав сыновей ремнем.
Несмышленая Элвира не много понимала из происходящего. Но кое-что и она понимала. Когда казаки уводили Якаба Эрнеста, Элвира махала ему ручкой и кричала «пока, пока!». После всего случившегося Элвира уже никогда никому при прощании не махала рукой и не говорила «пока, пока!».
Паулис и меньшие братья, по мере того как подрастали, набирались ума-разума, на каждом шагу сталкивались с растерянными, раздосадованными людишками. Повальное увлечение заморскими плаваниями, чему зунтяне десятки лет предавались с успехом и одержимостью, щедро сея вокруг себя семена богатства, расточительства, самомнения, — эта увлеченность неожиданно сошла на нет. Ворота возможностей, год от года открывавшиеся все шире, приучая к мысли, что так будет всегда, вдруг захлопнулись.
Красавцы парусники без дела и признаков жизни никли в порту на приколе, служа прибежищем голодным крысам, которым тоже трудно было примириться с тем, что золотая пора миновала.
Летними погожими деньками, сложив на коленях свои татуированные руки, в угрюмой праздности сидели, перед клубом мужчины. У кого еще что-то водилось в кошельке, те посиживали внутри, но без прежней удали, размаха; задумчиво потягивали пиво, закусывая копченой салакой. Никто толком не знал, что же делать дальше. Что в Зунте не будут строить стальных кораблей, понимали все. Кое-кто успел перебраться в Ригу, присылал оттуда обольщающие письма: дескать, переезжайте, на заводах работы хватает, мастеровых у каждого перекрестка на стройки зазывают, город разбегается во все концы быстрее, чем огонь в сухом лесу. Легко сказать — переезжайте. Грузи, как цыган, на подводу пожитки, в семье-то шесть, восемь, а то и девять душ.
Большая часть капитанов с помощью нерадивых арендаторов и оставляемых без присмотра работников довели свои хозяйства до ручки. Вдоль всего побережья тянулись запущенные угодья, некогда плодородные поля зарастали ольхой и бурьяном, сиро стояли никому теперь не нужные кузницы, лесопильни, сараи и склады, смолокурни и канатные мастерские. Кораблей больше не строили. Когда не стало денег, чтобы купить харчей у лавочников, завозивших продукты из дальних волостей, вдруг обнаружилось, что и буханка хлеба может стать проблемой, а фунт масла — пределом мечтаний.
Чем туже затягивался узел невзгод, тем настороженней следили горожане за каждым шагом Ноаса, стараясь по его маневру уловить, откуда ветер дует. Только теперешний сухопутный Ноас мало походил на того Ноаса, что некогда кружил по морям и океанам, в свои короткие побывки охотно рассказывая о виданных на краю света новинках. Мундир с золотыми пуговицами носил будто бы другой человек — уклончивый, замкнутый, непроницаемый. При встречах в порту, на улице или в клубе за стойкой Ноас был не прочь потолковать о погоде, ожидаемых ветрах, а чуть дело коснется серьезного, ухмыльнется, буркнет что-то невнятное — и молчок. Уловки Ноаса в зунтянах заронили мысль, что старый прохиндей что-то затаил, вынашивает какие-то планы, потому за ним надо глядеть в оба.
Ноас Вэягал оказался в числе немногих счастливцев, кому все же удалось вовремя сбыть большие парусники за вполне приемлемую цену. Был момент, одну из оставшихся шхун он куда-то сплавил, дав основание слухам, будто Ноас с нанятой в Сингапуре командой ныряльщиков собирается у берегов Греции промышлять губкой, но это оказалось чепухой. Месяц-другой спустя Ноас воротился домой с полдюжиной бочек сельди.