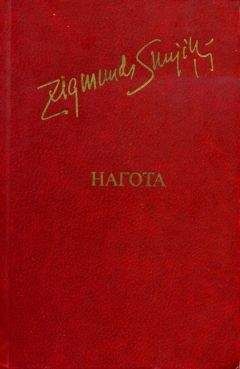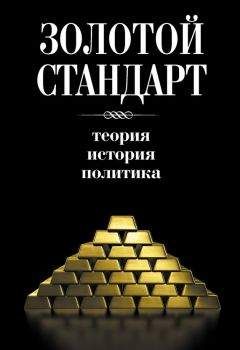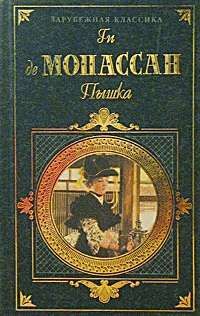Зигмунд Скуинь - Кровать с золотой ножкой
Поэтому Август от души радовался, обнаружив в Якабе Эрнесте тягу к земле. Это и было для него доказательство, что Якаб Эрнест его сын. Природные наклонности Якаба Эрнеста служили тому более весомым подтверждением, чем то, что он появился на свет с его, Августа, легкой горбинкой на носу и карим крапом в голубых газах. Трезво поразмыслив, Август пришел к выводу, что у него нет малейших оснований связывать надежды с будущим Якаба Эрнеста, и все же при постоянной их близости Август частенько терял голову, совершая опрометчивые поступки. Поскольку он все еще любил Элизабету, ничего иного не оставалось, как тешить себя обманом — сначала хозяйство на ноги поставлю, а там посмотрим, как жизнь повернется.
Тем летом, когда Ноас взял с собой в плавание Якаба Эрнеста, в усадьбе Вэягалов закончили погреб — больше Август не смог придумать никаких строительных работ. Казалось, тут бы и порадоваться, однако самочувствие у Августа было скверное, по ночам донимали кошмары, с утра вставал вялый, разбитый. Как-то пополудни, тихим предосеннпм днем, подымая пары, Август заметил, как закружилась над ним черная бабочка. Потом села на лоб, замерла. Стараясь отогнать ее, Август резко мотнул головой, и тотчас перед глазами полыхнула черная пустота, как будто он неосторожно засмотрелся на солнце. Плуг выскочил из борозды, но лошади не остановились. И он плелся за ними, толком не понимая происходящего. У межи лошади стали, и Август немного пришел в себя. Ноги подкашивались, было такое ощущение, будто мышцы на них оборвались и болтаются вокруг голени. Бросив упряжку в поле, Август побрел домой. Лошади, в недоумении тихо всхрапывая, потянулись следом.
Не помогли на этот раз ни жаркая баня, ни настойка золотого корня. Немощь не отступалась. С утра Август еще перемогался, а к вечеру опять его скручивало. Так и не разобравшись, что за хворость его одолела, две недели провалявшись в постели, Август разыскал бумагу и написал завещание, в котором все свое движимое и недвижимое имущество отказывал Якабу Эрнесту.
В тот же день почтальон принес Элизабете письмо с английской маркой, в нем Ноас извещал, что барк «Катрина» затонул у берегов Ирландии. О Якабе Эрнесте в письме было несколько слов: «От пережитого лишился памяти, надеюсь, временно».
Поджидая возвращения Якаба Эрнеста, Август на изголовье кровати проставлял черточки. После двадцати восьми Якаба Эрнеста привезли домой. Увидел его Август и почувствовал, как половинка сердца перестала биться, почувствовал со всей определенностью. Сначала по сердцу как бы прошлась стальная струна, какой режут бруски масла, и сердце дернулось от жгучей боли, потом правая сторона совсем одеревенела. Ночью Август вышел к морю, залез в первую попавшуюся лодку и стал неумело выгребать в открытое море. Лодку крутило на волнах. Густой туман обволакивал холодом. Возможно, Август терял сознание, память зияла провалами. Когда туман рассеялся, лодка покачивалась на мелководье, неподалеку от того места, где он ее взял. Грудь по-прежнему давило, но сердце, теперь уже все целиком, выстукивало ровно и глухо, как прежде.
Сколь бы ни было различным отношение братьев к свалившемуся горю, сколь бы различно каждый ни переживал, ни перемогал, оценивал и соотносил происшедшее со своей совестью, пути, ими избранные, для обретения покоя и душевного лада, были удивительно схожи — Ноас и Август с одержимостью набросились на работу. И потому ли, что таинственная, логике недоступная смета удач и несчастий не нарушила общего равновесия, потому ли, что судьба чередом насылала и разгоняла всяческие душевные испытания и невзгоды, как ветер насылает и разгоняет хмурые тучи, но последующие годы для братьев во многих отношениях выдались удачными.
Мало кто догадывался об истинных причинах, побудивших Ноаса затеять в Зунте строительство Особняка. Большинство зунтян объясняло это возросшим богатством Ноаса. Действительно, деньги в ту пору, казалось, сами просились в его сундуки. Четырехмачтовый барк приносил хорошие доходы — американский хлопок на европейских рынках шел нарасхват, а это взвинтило фрахт. Корабли поменьше можно было с выгодой использовать поблизости — в районе Скагеррака и Каттегата, где датские судоходные компании грызлись с немецкими. Англии, погрязшей в очередной колониальной войне на Африканском континенте, пришлось часть своего торгового флота мобилизовать для нужд армии. Отпала конкуренция, ставки за перевозку угля возросли. Даже бременская страховая контора «Ллойда», от которой дожидаться денег казалось делом столь же безнадежным, как яиц от петуха, почуяв, что лнфляндцы собираются учредить свое страховое агентство, за потонувшую «Катрину» уплатила страховку неожиданно быстро и на редкость щедро.
В свою очередь Август на лесосеке — лес свели для усадебных построек — выкорчевал пни, запахал целину. Поля Вэягалов плодородием не отличались, места по большей части низкие, с переизбытком влаги. А тут четыре лета кряду выдались сухими, и поля Вэягалов дали урожай, какого в тех местах никто не видывал, не помнил. И поскольку от засухи пострадали многие районы России и Центральной Европы, от покупателей отбоя не было.
Со строительством Особняка не все шло гладко. На этот раз Ноас толком не знал, чего он хочет. Поначалу речь велась лишь о жилом доме, затем в нижнем этаже появилось помещение для магазина, в конце концов превратившегося в кондитерскую с пристройкой для пекарни. По новому проекту на втором этаже предусматривались комнаты для конторы. Ну, вроде бы полная ясность. Но тут обнаружилось, что продается примыкающий к задам участок. После некоторого колебания Ноас приобрел его по сходной цене.
Внешне Ноас по-прежнему жил в «Вэягалах», а в Зунте держал контору. На самом деле он поутру в конторе просыпался, там же вечером и спать ложился. Напротив письменного стола красовался гигантских размеров диван, обитый гладкой коричневой, пахучей, словно еще дышащей юфтью аргентинской выделки. В изголовье лежали закатанные в одеяло белье и подушка. У Элизабеты с детьми Ноас за зиму побывал не более трех или четырех раз. На час-другой заедет, да и то в основном занимался тем, что чинил часы, менял фитили в керосиновых лампах, смазывал скрипящие петли дверей. К Якабу Эрнесту, случалось, вообще не заглядывал, очередную пачку денег на хозяйство совал в руки Элизабете уже на лестнице. Правда, разговаривать с Элизабетой было не легко — уже тогда в ней подмечали странности, которые проявились сполна после расстрела Якаба Эрнеста. По выражению лица Элизабеты невозможно было заключить, слышит она, что ей говорят, или не слышит. Застывшие, широко раскрытые глаза вечно в слезах. Лишь ее великолепные белые зубы ничуть не изменились, потому на опавших, усохших щеках обрели какую-то нарочитую обособленность, никак не сочетаясь с тонкими губами.
Тем самым все известное нам о жизни Элизабеты вроде бы рассказано. Несколько месяцев спустя после похорон Якаба Эрнеста на городском кладбище Элизабету поместили в лечебницу для душевнобольных в Дерпте, где через два года и семь месяцев вслед за ранее угасшим духом угасло и тело Элизабеты. В ее вещах нашли неизвестно когда написанную записку: «Никто мне ничего не должен».
Август в неустанных трудах и хлопотах, неделями, месяцами не давая себе роздыху, особенно между Юрьевым и Микелевым днем, уверенно продвигался вперед, весь погруженный в работу. Но временами, когда во сне начинали являться обольстительные кошмары, бередя плоть и пробуждая похоть, он, не считаясь ни с чем, забрасывал дела, впрягал жеребца в рессорную коляску и ехал в клуб перебеситься. Все было настолько привычно, что он заранее знал, каким образом начнется и как закончится кутеж, какой от него будет прок и какие потери, какими словами встретит его трактирщик и сколько придется выпить водки, прежде чем удастся заглушить в себе гордость и стыд настолько, чтобы хватило смелости постучдться к Мнце. Знал наперед и то, сколько Мице украдет у него из кошелька. Даже знал наизусть ее вскрики отчасти искреннего восторга, отчасти профессиональной хитрости шлюхи, умеющей польстить клиенту.
В один из таких кутежей, когда он успел довести себя до нужной кондиции, выйдя из клубного туалета, не пошел обратно в грохотавшую от музыки гостевую половину, а повернул к зеленым плюшевым занавескам, за которыми была знакомая дверь. Бубня вполголоса прилипчивую мелодию и кулаком отбивая такт на красных крашеных перилах, Август упорно лез наверх к Мице. Он уже достиг верхотуры лестницы, как вдруг из комнаты Мице вышел брат, Ноас, как обычно в роскошном синем мундире с золотыми пуговицами. Наискосок через жилетку, словно надраенные корабельные поручни, тянулась в два ряда золотая цепочка часов. Август был в своей серой суконной паре, пристяжной крахмальный воротничок невесть куда задевался, сорочка на груди расстегнута. В ту пору братьям было за пятьдесят. Ноас еще больше располнел, погрузнел, бородатая голова тонула в массивных плечах. Август сохранял поджарость и стройность. И шея у него была такая же, как в молодости, длинная, это бросалось в глаза, поскольку Август не носил бороды. Скрестившиеся взгляды братьев заискрились, словно палаши драгун. Август густо покраснел, хотя и без того был красен от выпитого. Ноас сдвинул свои густые брови в насмешливой ухмылке.