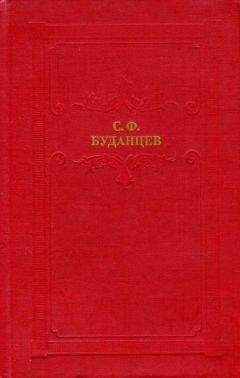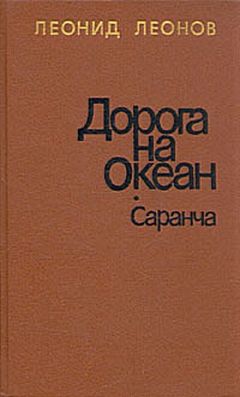Сергей Буданцев - Саранча
Подошел капитан, приземистый большеголовый старик, часто привстававший на цыпочки и тогда бахвалившийся: послушать его, так он и «Лузитанией» командовал. Его нынче утром безжалостно срезал Тер-Погосов: старик поздоровался для шика по-английски, Георгий Романович загнул длинное матросское ругательство, гордость британского флота, капитан, не понял, подвергся насмешкам и поджал по-бабьи губы. Теперь Веремиенко привлек его удрученным видом, и он шепеляво забормотал об апельсинном ветре из Энзели. По Онуфрию Ипатычу, ветер хоть бы и не благоухал, а скуку не разгонишь никакими апельсинами.
— Вот то-то я и говорю, — сглуху обрадовался капитан. — К вечеру будет сильнее, барометр падает. Не дай бог разведет волну. Me дье ну гард! — и, довольный французским языком, отправился на мостик.
К закату в самом деле посвежело, пахнуло уже не Энзели, а Волжским устьем. Месяц поднялся за облака. Ужинали все вместе. Онуфрий Ипатыч выпил араки с капитаном и заявил задорно, что ему нужно побалакать с Георгием Романовичем. Тот мутно поглядел и так лизнул пересохшие губы, словно готов был сорвать с них кожу. Плицы шлепали за переборками кают-компании, ночь перемалывалась скрежещущими машинами, у нее был тошнотворный вкус, пресекавший Тер-Погосову всякую возможность наслаждаться веселой стряпней судового кока: пароход начало поматывать килевой качкой, а Тер-Погосов был в сильной степени подвержен морской болезни.
— О чем мы с тобой будем разговаривать?
— У меня есть что спросить.
Тер-Погосов откинулся от стола, прижал салфетку к губам, позеленел, ему невмоготу было оставаться в каюте, полной запахами еды, он выбежал на палубу. Высокие рваные облака, предводимые бежавшими за пароходом звездами, темно плыли в небе, их земным отражением казалась большая, неясная баржа с печальным огоньком на носу. Тер-Погосов прислонился к борту, блуждающий свет из кают-компании колебался на его измученном лице. Он едва собрал силы выдавить:
— Ну, говори, если не терпится!
Веремиенко начал издалека, — трудно нападать на потерявшего самообладание человека, — он дал понять, что раскусил способ обмишуливанья (так мудрено и выразился: «Разделяй и властвуй»). Его, Онуфрия Ипатыча, постоянно старались поставить один на один с Георгием Романовичем.
— Только вы меня своей лавочкой не удивите, я на весь банк пойду.
— Раскудахтался, — вяло сказал Тер-Погосов.
Муханов вперился в неизмеримую мглу, в которой барахтался пароход. Муханов не проронил ни слова, зная, что это молчание — помощь Онуфрию Ипатычу, что молчать разумно, что пора накапливать союзников, иначе ему достанется последнее единоборство с Тер-Погосовым, который подминал людей, как кабан кукурузу.
— Да что там языком колотить! — закричал Веремиенко. — Бочки с песком везем…
Тер-Погосов пожал плечами, отвернулся. Не защищенная волосом белизна шеи вдруг открылась Онуфрию Ипатычу.
— Огласки боишься… Судно маленькое, в пассажирской каюте захрапят, на мостике слышно. Деньги!
— Тише, дьявол!
— Деньги, деньги на бочку!
— Сколько?
— Все мои три тысячи, как хочешь, — золотыми, долларами, фунтами.
— Бандит, еще валюты перебирает!
Странная перебранка, сражение издевками завязалось между ними. Это отдавало сумасшедшим домом. Муханов давно примечал в своих сообщниках мрачноватую рассеянность. Выцветали и блекли душевные оттенки, зато сгущались основные цвета. Муханов знал цену наслаждениям, и ни у одного из них не видел влажных счастливых глаз. Зато резче и жестче определились складки губ. Муханов давно наблюдал опасный признак: непроницаемую душевную уединенность, позволявшую забывать об окружающих обстоятельствах. Веремиенко и Тер-Погосов кричали друг на друга, не слыша голосов, не чувствуя оскорблений, квитались за все прошлое, за постоянную вражду, их злоба росла и теперь, но независимо от ругани. Они позабыли, где находились.
— Погодите, — тихо остановил Муханов, — надо еще избавиться от баржи.
Они сразу подчинились. Тер-Погосов побрел в сторону, из полосы света в темноту, и там его начала мучить морская болезнь.
— Ну, черт с тобой, мужик, — проговорил он ослабевшим голосом. — Получишь деньги, две с половиной тысячи. Баржевой старшина — сволочь… нельзя положиться… связался с ним…
Его побеждала плоть, переваливала через борт, выворачивала душу. Он стонал, кряхтел и между жалобами ругался, раскаиваясь, что поехал. Он не мог никому доверить ликвидировать баржу, а с нею все улики. Нет людей, не на кого опереться. Истощенный и потрясенный, он раскрывал карты. У Онуфрия Ипатыча закружилась голова. Зыбкий ход парохода, эта качка, губившая врага, его, Веремиенко, возносили, ему помогали. Он торжествовал.
— Еще пятьсот рублей! Я перейду на баржу, пущу на дно у самого устья. Там желтая вода. За горло возьму баржевого. Деньги сейчас!
— Да нет у меня таких денег!
— Займешь у Муханова, потом сочтетесь.
— Ну, с ним считаться. — проворчал Муханов.
Веремиенко рванулся к нему, схватил за руку, беспомощно длинные пальцы слабо пошевелились, — и, теребя ее, потянул Муханова к корме.
— Слушай, — хрипел он в бешенстве, слюна забивала рот. — Смотри! — И он показал туда, где темнела в чуть светившейся воде, не отставая, подымаясь с горизонта, баржа. — Заору! Разбужу команду! Пусть вскроет любую бочку.
У Муханова остановилось сердце, обдало холодом из туманной бездны, откуда надвигался этот черный призрак, готовый раздавить. «Молчи, молчи», — хотел он вымолвить и только странно откашлянулся. Веремиенко терзал его пальцы.
В ту же ночь Онуфрий Ипатыч получил от Тер-Погосова сто пятьдесят фунтов стерлингов и пятьсот долларов.
IIIЧаса полтора «Измаил Тагиев» стоял на якоре перед устьем реки и хрипло взывал о лоцманской помощи. Уже вечерело. Волнам предшествовали темно-багровые тени. Но и в смягченном свете вечера легко различалась желтизна пресной воды, наносимой мощной и мутной рекой в соленую зелень Каспия. Здесь образовались из речных наносов опасные отмели: при глубине в полторы-две сажени хорошая волна, разбежавшись с морского простора, почти обнажает дно, и горе судну, которому придется скакать по песчаным, тупым гребням. В замысловатую дельту вход сложен, изменчив, пароход взывал к лоцманской помощи.
Веремиенко перебрался на баржу. Сухое раздражение, напоминавшее волнения карточной игры, мучило его с прошлой ночи, томило, словно бессонница, и ничего так не хотелось, как опуститься в дремоту. Баржевой старшина Петряков, который держал в своих безмерных, тяжких лапах их спасенье, опасливо помалкивал, отворачивал безбровое носатое лицо и кривил тонкий, как бритвенная ранка, рот. Он словно сам боялся показывать несоответствия своего лица.
— Как вымерли все, — сказал Веремиенко, поглядывая на дальний плоский берег с признаками поселка, очевидно опустелого. — А ветер свежеет. Капитан дрейфит: в волну — с буксиром, да фарватер с капризами…
Три рукава реки уходили от моря в камышовые заросли. С баржи было видно, как бурлила вода у полускрытых камней при входе в средний рукав. На пароходе суетились, верно решили: не ждать лоцмана и войти в устье до наступления темноты.
Давеча Веремиенко посмеивался, Тер-Погосов рвал и метал, кричал на капитана, отказываясь разрешить держаться с грузом в открытом море. Он быстро понял положение. Провожая Веремиенко, сказал тихо, побледнев, с прерывающимся дыханием: «Сажай на камни, и концы в воду».
Но, попав на баржу, Онуфрий Ипатыч вполне оценил, насколько его одурачили, поставив наблюдать за Петряковым. Прожженный плут глазел по сторонам, держался так, словно ничего особенного и не предполагалось. Может быть, он действительно замышляет свое: благополучно провести баржу, а там и предать всех. С чем приступиться к человеку, который несет такое:
— Все развалилось к чертовой матери. Вот теперь и собирай. Я в девятнадцатом году в Астрахани в Особом отделе флота служил. Клуб у нас открывали, в здании биржи. Артистов, певцов пригласили из бывших императорских театров. Выкатился какой-то очень знаменитый певец во фраке, становится перед роялем, а у меня приятель был Саша Овсянников, малый боевой, как крикнет на весь зал: «Яблочко!» Песня матросская, любимая. Братва присоединяется. А, видим, певец не знает. Саша надрывается: «Яблочко!» — весь зал ногами топает: «Яблочко!» Певец публику останавливает. «Извиняюсь, — говорит, — „Яблочко“ я не знаю, я могу спеть „Рябину“, русскую песню». Саша ему: «Ладно, пой, хрен с тобой!» А в зале шумят, шаркают. Подсолнухи, конечно, и дынные семечки. Саша встает и громко говорит: «Голос вполне паршивый, хоть и императорский певец. Пойдем, Петряков».
Петряков засмеялся отрывистым барабанным хохотком. — Сашу в то же лето расстреляли. — Он продолжал улыбаться. — Да и меня с той службы поперли. Что там говорить, насилу ноги унес.