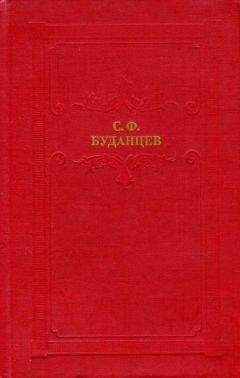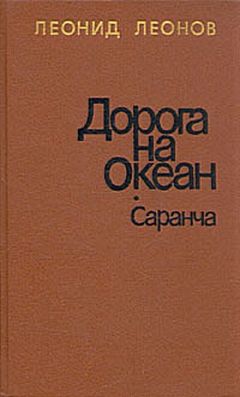Сергей Буданцев - Саранча
— Анатолий Борисович, я, конечно, понимаю, что задержки избежать было нельзя, но если даже будем задерживать и перегружаться, нас за одну эту промашку под суд отдать мало.
— Вы мне письма Крейслера не цитируйте! Я их читал и все угрозы знаю из первоисточника. Вам пить вредно: забываете все на свете. Вчера вон какую глупость удрали! Вы бы потонули и нас всех на дно потянули.
— А я что же лажу? Пора сматываться поскорей, да без шума.
— Вот, вот. Пойдемте-ка с пристани. Мне все кажется, что даже простые амбалы и те осведомители Чеки. Наши разговоры давно утеряли прелесть легальности. Как все изменилось. Давно ли вы приехали к нам наивным хохлом?
Они вышли на площадь, окруженную складами, пакгаузами, кипевшую деловой суетой порта. Амбалы с коричневыми толстыми ногами легкой походкой таскали тяжелые мешки с рисом, покрикивали: «Хабардар!» — и устало скалили зубы. Солнце, не стеля теней, растапливало самые тайные соки живого и вещей: крепко и душно пованивало кожами, потом, рогожей, мочой, нефтью, солью.
— Да, втянулись вы в наше дело, запутались. А ведь как вольно пахнет трудом.
Веремиенко ухмыльнулся со злостью. Муханов продолжал, неестественно горячась:
— Какое это ужасное чувство — ощущать себя в подполье. Бр… Никогда не занялся бы политикой. Но жизнь, реальная, простая жизнь, быток, человеческая страсть, как это все над нами хозяйничает. Женщина, крикливая, жадная, похотливая, — нельзя верить ни одному слову, — возьмет тебя и поведет куда хочет, предаст за малейшую выгоду. Да какое там — выгоду, за тень наслаждения, за то, чтоб иметь возможность купить какую-нибудь тряпку. Изглумится, если увидит, что тебе это больно, — как, знаете, кошка, которая мучит мышь, чтобы скисшая от страха кровь была вкуснее.
На набережной, сплошь асфальтированной, грелись пыльные чахлые деревца из вечнозеленых. Широкий вид на гавань открывался отсюда. В ней было что-то жестяное: от неподвижности водной глади, залитой радужными разводами масел и нефти, от отражений немногочисленных пароходов, пришвартованных к пристаням, — раскраска судов казались резкой и тяжелой. Муханов предложил сесть и говорил безостановочно, не в состоянии пресечь рвущиеся признания. Веремиенко, слушая, отшатывался, как будто слишком наклонялся над темным, заросшим колодцем, который притягивает, — кружится голова.
— Она засосет, втянет в гнусность, при случае этим же попрекнет. Но вот она совершенно, как говорится, разлюбила, предварительно целые недели ругая, оплевывая, стирая малейшие следы, оставшиеся после тебя у нее на душе. Ну, кажется, хоть и не своей волей, а стал свободен. Новая мила хоть тем, что не так распоясывается, помягче, посдержанней. Так не тут-то было. Возможность насладиться и этим убогим удовольствием отнята: опять вмешивается природа, она вспоминает твою обиду, жжет оскорбленным самолюбием, и ты еще сильнее сквозь ленивые содрогания с другой начинаешь желать ту, от которой только что освободился. Старые прелести кажутся по-новому приманчивыми. Знакомая влажность, запах, телодвижения, все это становится снова необходимым. И идешь, как пес по следу… И снова слезами, мольбами, унижениями, которыми, в сущности, наслаждаешься, клеишь общую жизнь. Через некоторое время она разбивается, давая ложную уверенность, что вот именно это — «последний раз». Но ты как приводным ремнем навсегда втянут в верченье супружества, с тошнотой, с зеленью в лице видишь, как тебя унизили, сломили. А тут уж недалеко окунуться в подлость, в преступление, потому что «надо же жить! Не могу же я ходить голой! Не зарабатываешь, не женись!». В злобе на весь свет за свою слабохарактерность готов отыграться на чем попало…
Некоторые слова, в подражанье слышанному, он произносил с брезгливой кривизной в лице, с деланными жестами. Ему, видно, не сиделось.
— Знаете что, пойдемте в духан, — тут недалеко брат Тер-Погосова содержит. Бездарный брат гения.
В кабачке сыроватая темнота полуподвала смешивалась с тонкими, отдающими ребяческой пеленкой испарениями кислого молока, вина, душистых травок. Угрюмый, неразговорчивый духанщик цвета шепталы действительно походил на Георгия Романовича. Муханов едва с ним поздоровался, выпил вина и, по-прежнему отрывисто, не смягчаясь, коротким дыханием выбрасывал:
— После революции, после пайкового хлеба, женщины как-то особенно возжелали всего этого. (Он показал на прилавок, где разлеталась белесая, в зеленых травянистых усах поросячья голова.) Изо дня в день хлебая в московских столовках суп из «карих глазок», мы думали, что поросенок — пища богов. Но при военном коммунизме было одно, что заставляло видеть мир по-другому и после чего новая экономическая политика всякому порядочному человеку должна казаться отвратной: это бесплатность, святая даровщина. Женщины плохо осваивались с этим принципом и теперь словно наверстывают потерянное. Никогда не было среди них такой глубокой продажности, коры расчета: на время, на ночь, ни одного лишнего раза, — платите.
Онуфрий Ипатыч стыдился взглянуть в лицо собеседнику. Мертвый гнет давил плечи. И хотя знал, что Муханов всегда осмотрителен с вином, все же перебил его тягостную исповедь напоминанием, что пить много не следует, и к уполномоченному надо, и расчеты кончать.
— В деле столько народа, что и запутаться можно. Тут одного обидишь, к стенке встанешь. Да и не согласен я с вами, со всей вашей философией. Не все они такие, как вы рассказываете. Есть и чистые, и преданные, и в беде не выдадут, и товарищи есть.
— Есть, да не про нашу честь. Вы не обижайтесь, Онуфрий Ипатыч, а вы наш человек, помятый, с гнильцой. В вас я вижу самый жалкий, самый смешной пример того самообмана, который приводит к наиболее пошлым и озлобляющим разочарованиям. Вы пошли на сумасброднейшее предприятие, чтобы завоевать «ее». А после того как она станет ваша, вы с ужасом увидите, что в чужих руках кусок кажется больше. Женщину уважаешь до того, как она изменяет предшественнику, уйдя с вами. Неизбежно начинаешь ревновать… А ревность… Ну, черт с ним, с духаном! Пошли. Только не говорите благоглупостей о любви. Они прямо накипают на ваших влюбленных устах. Вперед, в советский Техас, на борьбу с бичом трудового крестьянства!
— Если нынче Тер-Погосов обменяет советские на фунты, ведь я спасен! Все спасены. И ваши речи мимо. А там — Москва…
— Про Москву я тоже мог бы поговорить. Уж если драть, так драть за границу. Вещи и идеи приятно иметь в чистом виде. Решительно вы заражаете простосердечием. Мне уже доставляет удовольствие, что я являюсь к Крейслеру как снег на голову. Гимназическому товарищу сюрприз, утешение прошлого в несчастьях настоящего. В те времена он был первый голубятник в городе, страшный драчун и классный футболист. Небось ничего не осталось?
— Да, мало. Хотя забияка такой же. Тер-Погосов от него едва ноги унес. Его здорово персидская передряга скрутила, да и Татьяна Александровна болеет…
— Ну, что ж вы замолчали, лирик? Да, сюрприз, сюрприз…
IIПароход «Измаил Тагиев» мерно дошлепывал милю за милей одинокого скучного моря. Он все время слегка заваливался налево, откуда постоянное полосканье ветра нагоняло пологую тупую волну. Смотреть в открытое море, — светло-зеленая гладь чуть морщилась, в подвижных складках купалось разъяренное солнце, и можно было бы ослепнуть, если бы не так мягко дымилась голубоватая, емкая даль. Справа дрянное судно сопровождалось ровной желтой грядой берега, пустынной, наводившей мысли об изгнании, о голодовке. Суша тянулась, как нескончаемое сновидение. Онуфрий Ипатыч знал эти места с детства. Их песчаная безотрадность жгла теперь напоминанием о неудачах, о том, что вот он приближается к Карасуни, к заводу, к Тане, и приближается обманутый. Еще вчера он торжествовал, надеясь, что дележ совершится и он исполнит обещанное ей, но Тер-Погосов умело уклонился от разговора в суете отплытия. Нынче с утра прячется в каюте, что-то он теперь замышляет? Борьба с ним изнуряет, подымая со дна души такие отвратительные, жгучие яды, такие гнусные мысли о человеке! А между тем только этим зловонным оружием и можно сразить волосатого врага.
Пароход попыхивал, иногда, неизвестно почему, сипло оглашал палубу гудком, поворачивался. Нечистота и дряхлость судна, будничное спокойствие предвещали, казалось Онуфрию Ипатычу, поражение. Миновали маленький каменистый островок Малый Дуван. На берегу у мыса, торчавшего из песка, как полуистлевший бивень, раньше ютился рыбачий поселок. Веремиенко загадал, — если навстречу выйдет лодка, как это делалось всегда до революции, взять почту, посадить пассажиров, значит, желание исполнится. Но пароход даже не загудел, от поселка не осталось и признаков, — видно, во время войны его сожгли. Так опустело все побережье. Стало скучно стоять на носу. Чем можно развлечься на безлюдном буксире? Перешел на корму. За кормой струилась и завивалась легкой пеной жидкая зеленая волна, отмечая путь. Тень от дыма бежала рядом, его относило к берегу. Длинный, туго натянутый канат, как бы вздыхая, волок большую неуклюжую баржу, она словно утюг стирала морщину, прорезанную пароходом, за ней смыкалась рябая водная пустыня. Черная баржа двигалась неуклонно, как укор совести, как статья закона — за преступлением, и Веремиенко посматривал на нее со смутным чувством опасения и дружелюбия. В единственной приличной пассажирской каюте сейчас валяются Муханов и Тер-Погосов, с напускной беззаботностью дымя папиросками. А и они видят тяжеловесное сооружение, ползущее за пароходом, груженное вместо ядов, выведенных в оправдательных документах и бухгалтерских книгах Саранчовой организации, бочками с песком, разным ломом и хламом — вместо технического оборудования. Покуда не развязались с этим, пусть Тер-Погосов не празднует. И Онуфрий Ипатыч попирал ногой массивные завитки каната, мощно и равномерно тершегося о дерево палубы.