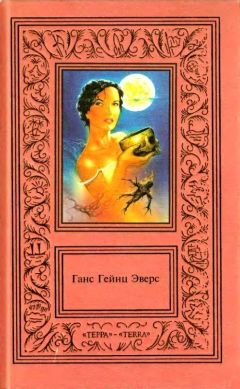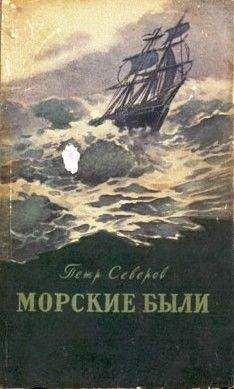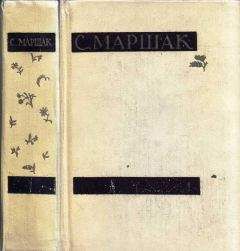Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
Под серебряным кустиком лопуха синела фиалка. Он заметил ее и, припав грудью к земле, потянулся губами к робкому сиянию цветка.
— Да что ты… в самом деле? — сказал я, отступая еще на шаг.
Вздрогнув, он поднял голову и глухо засмеялся.
— Я агроном, — сказал он, садясь на землю и щурясь от солнца. — Я знаю травы, цветы… больше, я знаю психологию трав. Я слышу звук распускающегося цветка. Это как бы тишайшее дыхание… Ведь одного этого достаточно, чтобы слишком горячо любить жизнь.
Я не нашел, что ответить. Он зажмурился и, запрокинув голову, глубоко вздыхая, проговорил:
— И вот, это меня… да, меня… втянули в нелепейшую ошибку истории. Зачем?! Не хочу! Я не хочу больше!
Пересиливая приступ рыдания, он промолвил тихо:
— Трава! Вот она — моя большая, моя зеленая любовь… — и широко, совершенно по-детски раскрыл глаза: — А куда мы идем, милый человек?
И хотя в его последних словах звучала искренняя сила, хотя были они чем-то похожи на песню, я сказал твердо:
— Вставай. Хватит…
Не медля, он поднялся.
— Извините, — покорно ответил он, — вы ведь разрешили говорить.
— Разрешил… только идти-то надо?.. На Большие Землянки мы идем.
— Вот как?! — казалось, он был радостно удивлен. — На Большие Землянки, говорите?.. Хорошо!
Постепенно мы спускались в овраг. За оврагом, вдоль опушки леска, лежала широкая проселочная дорога. Уже отсюда начинались знакомые, сотни раз исхоженные места.
На крутом склоне мой спутник остановился и, обернувшись, воскликнул с улыбкой:
— Знакомая дорожка!
— Почему? Иль бывал здесь?
Ступая на камень, я заглянул лысому в лицо. Он не ответил.
Потом, когда мы вышли на проселочную дорогу, он с восторгом начал говорить о лесе.
— Вы прислушайтесь к голосам леса, — говорил он. — Это совершенно удивительный оркестр! Это флейты, гобои, виолончели, это сама песня природы! А ночью?.. Лес ночью! Это, знаете, грандиозно. Свищет соловей… Дуб вторит ему листвой. Плавают светляки. Главное, светляки. Это как бы благородные вспышки чувства в темном естестве… Да! А вот днем светляков не видно. Жаль… Впрочем, это спасает их… О, нужно уметь чувствовать, любить, друг мой…
Издавна, с первых лет детства, я любил все это. Я любил вслушиваться в шелковый шорох листвы, различать голоса деревьев, звон лопающихся почек, осторожное падение плодов.
Лысый выражал мои чувства, но так свободно и легко, с такой спокойной улыбкой.
— …Здесь вот, справа, неподалеку, — говорил он, — небольшая старинная криница.
— Откуда ты знаешь? — допытывался я. В лесу, за меловым перевалом, в самом деле была глубокая студеная криница.
— Знаю… Жил в этих местах. И на Больших Землянках жил. У тетушки Анны.
Дыхание леса, насыщенное влажной прелью листвы, стало вдруг настолько густым, что я совсем задохнулся.
Обернувшись, лысый остановился и с ласковым вниманием глянул мне в глаза:
— Э, да… что с вами?
— Ничего… — Я не хотел говорить ему больше ни слова.
— Одышка?
— Да, одышка…
И, не выдержав, я все-таки сказал:
— Видишь ли, тетушка Анна это и есть моя мать.
— Разве?.. На окраине, третий домик?
— Скворешник на углу… гвоздика в палисаднике.
— Бог мой… Добрая старушка… Ее так и зовут на поселке — тетя Анна. Давно, верно, виделись?
— Давненько.
— А я всего с неделю назад. Помог ей деньжатами. Приболела она, но ничего, справилась. Фельдшера я вызывал.
— Спасибо…
— Что благодарить? Просто человеческая жалость. Я ведь сам невольный, насильно взяли беляки санитаром.
— Понимаю.
И опять мы идем по дороге, мимо кудрявых зарослей лозняка, постепенно поднимаясь на взгорье.
У поворота дороги, несколько в стороне, я замечаю розовый кустик сирени. Лысый замечает его одновременно со мной.
— Смотри-ка! — говорит он восторженно. — Смотри!
И, протянув руки, сворачивает в степь, к цветущему кусту. Он идет все медленней, медленней, пошатываясь, двигая поднятыми руками, как ходят вброд через реку, и наконец склоняется над кудрявыми соцветиями куста.
Я терпеливо жду. Мне уже понятны странности этого человека и неудобно торопить его.
Вот он выпрямляется, слегка дрожит его затылок. Вот медленно оборачивается плечо.
— Послушай, приятель…
Его лицо бледно. Горькие морщинки на щеках опускаются ниже.
— Отпусти меня домой… Поверь, ни в чем я не виноват, ни в чем, — и становится на колени в жесткий бурьян.
С минуту я смотрю ему в глаза, в эту линию между глаз, где собран характер. Постепенно лоб его меняет цвет, он становится пепельно-серым. Темная родинка у виска дрожит.
Я очень хотел бы знать, что сделал бы на моем месте Гансюк. Мы часто отпускали пленных. Многие из них, впрочем, даже не хотели уходить: они оставались с нами. И сейчас все, кажется, было ясно. Окажись лысый важным преступником, Гансюк, конечно, предупредил бы меня. И потом… опять над моей головой… высоко вверху зазвенел-засмеялся жаворонок.
— Я не верю тебе, — сказал я. — Но поклянись, да, землей, черепом поклянись, что ты не врешь… что никогда не был и не будешь врагом революции!..
Он упал лицом в траву. Три раза громко он поцеловал землю. И, когда он поднялся, щеки его были покрыты слезами, грязными от пыли.
Я запомнил это лицо в черных слезах.
— Я никогда и не был врагом… — сказал он. — Я слишком люблю жизнь…
— Ладно. Ступай…
И я решился: если он жертва ошибки, пусть себе трудится, ищет дорогу, живет.
За последний месяц я впервые действовал, целиком веря сердцу.
Он поднялся с земли. Медленно попятился назад. Он, кажется, еще не верил мне. Так он прошел несколько саженей, прижимая кулаки к груди, путаясь в бурьяне. И только когда я опустил винтовку, он весело засмеялся, но не бросился бежать, а прямо и смело пошел обратно ко мне.
— Дорогой мой друг, — сказал он, останавливаясь на расстоянии пяти шагов. — Это очень много — подарить жизнь! Я не забуду тебя… Вот, не откажи, возьми этот подарок. — И, пошарив в кармане, протянул мне часы.
— Платишь?
— Нет! Не подумай! — воскликнул он испуганно. — Видишь ли, в них маленький секрет, — и нажал серебряную головку. На обратной стороне крышки в круглой голубой рамке смеялось его лицо.
— Память, понимаешь ли… Для мамаши твоей память. Для тети Анны. А так они не дорогие… Тут, знаешь ли, жизнь за жизнь. Уверяю тебя, ей это будет очень приятно. Может быть, встретимся в других условиях, тогда порадую и тебя!
— Чем же порадуешь?
— О, будь уверен! Я слишком много за эти дни пережил.
Я взял часы.
— Хорошо. Передам.
— Да, да, передай… Так и скажи — тот самый, что фельдшера вызывал. Она помнит.
Я долго провожал его взглядом. С дальнего бугра он еще раз помахал мне рукой.
— Да, Гансюк, — сказал я вслух. — Я думаю, ты не обидишься. Ты сам учил меня добрым делам; мы многих таких же отпустили. И ты сам сказал: мелочь…
Перекинув через плечо ремень винтовки, я пошел напрямик, через степь. Но, пройдя с полсотни шагов, я вернулся обратно и сломал самую большую, самую кудрявую ветку сирени.
Поднимаясь на последний пригорок, я насильно закрыл глаза. Хотелось увидеть все сразу — весь поселок, дальние перелески, луговину, отчий дом. И пока я всходил по упругой траве, все громче, заливистей гремел жаворонок. Он наполнял своей песней весь этот просторный мир. И мне хотелось упасть в траву. И не дышать. И только смеяться… смеяться…
…Да, все осталось прежним. Сивый террикон, клены в долине, темные ряды казарм… Скорей!
Ветер свистит у меня в ушах. Бьет по бедру кованый приклад. Кепка поминутно сползает на глаза.
На окраине, за огородами, я останавливаюсь и вытираю с лица пот. Белобрысый мальчуган выкатывается из-за забора навстречу мне. Это сын слесаря Суржана — Митяй. Он заметно подрос и уже успел загореть… Когда-то я подарил ему голубя.
— Васька? — говорит он нараспев, приседая от восторга.
Но я прыгаю через ограду и выхожу в переулок.
Сзади несется звонкий клич: «Васька приехал!!»
Вот он, старенький мой скворечник, сломанный ветром забор, скрипучая калитка, крыльцо…
Я подхожу к окну. Маленькие ставни за эти месяцы осели и покосились. На одной сорвана петля.
Приоткрыв ставню, я стучу в раму. Жду, прислушиваясь к знакомым, дорогим шагам.
Вот они — громче, громче…
Но нет, снова тишина. Слегка покачивается занавеска. В стекле, отражающем синеву неба, осторожно скользит темная птица.
Я снимаю винтовку, ставлю ее к стене и, оправив ветку сирени, крадусь на цыпочках к дверям.
Крылечко весело поскрипывает под моими ногами. Изменив голос, я зову громко:
— Тетя Анна!
Кто-то неторопливо идет к двери, останавливается и, не открывая, спрашивает глухо: